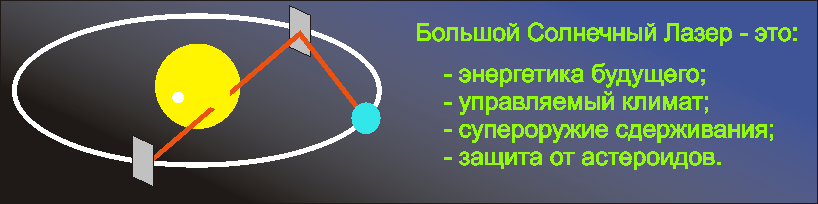
Scanned by: Ruslan Sharipov (November 18, 2008, Ufa).
Рассказ
Горлинки хлопотливо суетились в уличной пыли. В косых лучах заходящего солнца, пробивающихся откуда-то сбоку, из проулка, они казались совсем красными, а глазки их поблескивали черными бусинками. Стараясь не делать резких движений, имам Тойчи Суюнов глубоко запускал в карман белого халата руку, извлекал хлебные крошки, специально припасенные зернышки и рассыпал их перед собой, издавая нежные призывные звуки. Горлинки отважно подбирались к самым ногам настоятеля мечети. Умильная улыбка расплывалась по его лоснящемуся, сытому лицу.
— Вы, суфи, сегодня что-то не в голосе были. Если бы меня в бок не толкнула жена, я так и не услышал бы спросонья азана. А? Что Вы сказали, Мансур-ака? А? — Мулла Тойчи произнес всю фразу, слегка растягивая слова и привычно гнусавя.
Сидевший у ограды старик даже не повернул головы, он лишь рассеянно пробормотал что-то вроде: «На разговорах с Вами, домулла, я зубы притупил»,— и продолжал с силой забивать молотком гвозди в каблук женской туфли. Суфи Мансур Самандар-оглы, наряду с выполнением своих несложных духовных обязанностей — призывом с минарета правоверных на молитву и охраной мечети, работал обыкновенным уличным сапожником.
— Да не стучите, зачем вы стучите так громко? — заговорил снова мулла-имам, видимо, только для того, чтобы показать свою власть.
Он не торопился на молитву. На террасе мечети виднелись всего две старческие фигуры. Прихожане собирались медленно.
— Своим стуком вы разгоните горлинок, робких птичек. Мансур не отвечал. Мулла поправил на голове грязноватую чалму, солидно вздохнул и, запахнув халат, вступил под низкий свод входной арки. Здесь он остановился, окинул скучающим взглядом узкую, точно коридор, улицу, горлинок на дороге, телефонный столб с порозовевшей верхушкой...
— Да, — сказал он, слегка зевнув, — кому это вы чините туфли? Русской?
— Нет, это для внучки, Мархамат-ой.
— М-м... Дочери каменщика Базарбая? Живая девица... Ой-ой-ой, какие туфли носит!
И почтенный мулла-имам поспешил вернуться. Он взял туфлю и долго рассматривал ее, поглаживая рукой.
— Однако какая маленькая ножка. Вы скажите... э... э... ее отцу, что не подобает молоденькой мусульманке одевать такие туфли. — И, еще раз вздохнув, имам направился в мечеть. В калитке он осгановился и, причмокнув губами, проговорил:
— Какая ножка... а?
Он или не услышал, или сделал вид, что не слышит ворчливых слов суфи-сапожника:
— Все люди оскомину набивают кислым, только имамы сладким... Стану я говорть заказчикам такие вещи? Кто понесет мне обувь в починку, если к каждой подметке я стану добавлять по божественной проноведи?
Вечерело. Темно-фиолетовые тени легли на белесую пыль. Потянуло, запахом кунжутного масла, жареного лука. В мечети бубнил заунывный голос. Торопясь и глотая слова, имам читал молитву.
— Почему Вы, дедушка, не в доме молитвы? — вполголоса спросил кто-то.
Суфи резко качнул головой, словно стряхивая раздумье. Перед ним на корточках сидела девушка, стриженая, с веселыми глазами, пышущая здоровьем.
— Я боялась, что уже не застану Вас здесь, дедушка. А мне очень надо спешить на лекцию. Я думала, что Вы молитесь...
Маневр погладил голову девушки.
— Молитвой не заменишь работу, Мархамат. Тот, кто обременен работой, должен умеренно молиться. Вот твои туфли, дочка, совсем готовы.
Девушка вскочила.
— Дед Мансур совсем безбожник, совсем... Ай-ай! А я вот сделаюсь настоящим имамом. — Она забавно приложила к ушам ладони, закинула голову и, закатив глаза, пропела: — К молигве, к молитве, о правоверные...
— И совсем ты не то возглашаешь, что надо, — добродушно проворчал Мансур. — И смотри, наш мулла-имам увидит. Перестань же...
— Вы знаете, дедушка, — Мархамат быстро зашептала, — свадьба будет очень забавная, совсем по старинке. Тетушки Рабия и Карамат-ой шьют мне паранджу...
— Па-ран-джу? — Суфи от неожиданности даже приподнялся, из его передника вместе с молотком посыпались на землю гвозди, шило, обрезки кожи.
Девушка, смеясь, бросилась подбирать инструменты.
— Да, я студентка и надеваю паранджу. Вот!
Мансур насупился.
— И этого хочет Касым? Он же грамотный человек!
— Я буду в свой инстигут ходить под чачваном сдавать зачеты. — И она показала язык окончательно ошеломленному деду.
Только теперь Мансур начал понимать, что девушка говорит несерьезно.
— Ну-ну, ты пошутила.
— Конечно! Это всякие там тетушки, свахи говорят: «Ты носить паранджу не будешь, но обычай бабушек наших — обычай священный. И на свадьбу паранджу надеть надо, хоть ты и отступилась от закона». А Касым говорят. «Пусть немного будет старины, она не повредит» Он так всегда забавно выражается, когда разговаривает со мной: «Я стану вашей жертвой.., Я прах следов ваших ног».
Мансур все еще не мог опомниться.
— Подходящее ли это дело — паранджа, — бормотал он — Не слушай этих своден.
— Но ведь лишь на один день.. И она такая красивая, из лилового бархата А потом она будет висеть у меня в углу.
Из-под темного свода безмолвно и торжественно выплыли белые тени в чалмах, с посохами в руках. Сухо покашливая, важно перебирая крупные черные четки, медленно прошел мулла-имам. В сторону суфи и девушки он даже не взглянул и только негромко проговорил, словно ни к кому не обращаясь:
— Во времена правоверия одни распутные бабы имели открытые лица. Сбросившую чачван закапывали живой в землю как совершившую прелюбодеяние...
Смех замер на устах девушки. Но через минуту она уже вприпрыжку, размахивая туфлями, мчалась в сумерках по пустынной улице.
— Нехорошо, нехорошо, — вдруг громко проговорил Мансур и огляделся, удивленный тем, что около него никого нет.
Кряхтя, старик поднял свой ящик и вошел в маленький дворик, в двух шагах от мечети. Дворик был опрятен и чист. Мансур осторожно снял кавуши и поставил их около калитки. Босиком он прошел в угол двора. Сложив незатейливое свое имущество в маленькую, слепленную из серой глины с саманом кладовую, он подошел к очагу и несколько минут с интересом наблюдал, как старушка — его сестра — возится около котла.
— Нехорошо, — вдруг снова громко сказал Мансур.
— Ляббай? — спросила старуха.
— Пока у тебя поспеет тут каурма, я пойду в чайхану, выпью пиалу чая.
Суфи потолкался во дворике, подбросил соломы дремавшему в углу теленку, полил цветы, но все не уходил. Сестра молча продолжала готовить ужин.
Суфи, тяжело вздохнув, сел на глиняное возвышение у дверей михманханы.
— Нет, я не пойду.
— Ну и хорошо.
— Хотел порасспросить у людей насчет Касыма.
— Это про жениха Мархамат-ой?
—— Да. Что он за человек?
— Человек он достойный, на большой работе... Однако чего ты в чайхане хочешь узнать? Отец Касыма всегда торговал вместе с нашим мулла-имамом. Ты его и спроси.
Приятный запах из котла, чистая скатерть, тарелка с нарезанными помидорами, большая дыня — все это располагало к отдыху. В этот вечер Мансур так и не собрался в чайхану Не выбрался он и в последующие дни и очень жалел об этом впоследствии.
Девушка не показывалась. Раньше она почти каждый дейь забегала к своему деду выпить чаю, послушать махаллинские новости, рассказать о своих делах. Старик знал уже давно о предстоящей свадьбе, знал, что Мархамат, студентка технического института, собирается выйти замуж за советского домуллу — преподавателя Касыма Урманова — по любви. Когда Мансур вспоминал эту подробносгь, он удивленно поднимал брови и откровенно выражал недоумение, почему родители девушки допускают такую вольность. Но сам старик в глубине души считал предосудительным только откровенные разговоры о любви, о взаимности, а в душе был очень доволен, что так хорошо складывается судьба любимой внучки.
— Нужно радоваться приходящему и не вспоминать о прошедшем, — по секрету говорил девушке старик — Ты живешь в горячее время, когда рождаются новые обычаи, и нечего тебе оглядываться на гнилую судьбу женщин старого времени.
— А мечеть, а домулла-имам? — спрашивала Мархамат-ой.
— По этому поводу я могу тебе припомнить, правда, старые, но мудрые слова: «Кривая арба дорогу портит — имам народ ломает».
Девушка вскакивала и, хлопая в ладоши и пританцовывая, обегала кругом дворик.
— Вы совсем, дедушка, неверующий, Вам надо бросить Ваш минарет и крики «ла-ла».
Старик осторожно разглаживал седые, четкие, словно проволочные, волоски усов и чуть-чуть улыбался. Трудно было понять, что он думает, но говорил он уклончиво:
— Истина есть истина, человек есть человек. А бог ... Нельзя же сжигать ковер из-за одной блохи. — И все лицо его покрывалось морщинками, а в молодых глазах бегали искорки.
Он оглядывал вековое тутовое дерево, грядку с георгинами, покосившийся домишко с резными алебастровыми решетками — панджарами и, словно отвечая на вопрос, которого, кстати, никто ему не задавал, говорил:
— Четыре десятка лет я работаю суфи. По жизненному пути я уже прошел семь или восемь лет после шестидесяти. Еще немного осталось...
И в этих словах девушка слышала горечь, неудовлетворенность.
На свадьбе внучки Мансур не сумел побывать. Он уезжал в пригородный кишлак на похороны дальнего родственника.
Но жениха Мархамат — Касыма Урманова — суфи увидел раньше, до свадьбы.
В пятницу кто-то постучал в калитку мечети.
Пришедший оказался высоким, плотным человеком в ташкентской темной бархатной тюбетейке, чесучовом пиджаке. Он был тщательно выбрит, небольшие черные усы подчеркивали полноту властного лица.
— Разрешите мне, — сказал человек, — осмотреть дом благочестия. Мне говорили, что здесь есть роспись старых мастеров. Ключи у вас?
Мансур не считал для себя затруднительным показать любезному посетителю мечеть. Он проводил его. Гость постоял около хауза, задумчиво глядя на лягушек и бегающих по водной глади паучков. Дневной жар смягчался здесь тенью вековых талов. На расписной террасе было сумрачно. В тени тонули углы и ниши.
— Здесь чисто и хорошо, все располагает к благочестивым размышлениям, — сказал посетитель. — Я посижу, а если есть у вас дела, оставьте меня.
Мансур из вежливости исполнил просьбу гостя Он уже подошел к минарету, и вдруг в душе шевельнулось сомнение: «Какой-то человек, неизвестный, что ему тут нужно?» Суфи быстро, совсем не по-стариковски, поднялся по головоломным ступеням минарета и посмотрел вниз.
Посетиnель все сидел в мечтательной позе над хаузом. Потом он медленно повернул голову и посмотрел на ограду, затем на калитку. Встал, и тут в его наружности произошла странная перемена. Человек как-то сжался. Крадущейся походкой он пробежал по террасе и заглянул внутрь мечети. Затем быстро вытащил из кармана большой желтый платок (такими платками узбеки дехкане повязываются как поясом) и скрылся в темном провале двери.
Мансур, кряхтя и бубня что-то под нос, скатился вниз по лестнице и зашлепал по террасе. Молодой человек уже выходил навстречу, жмурясь от яркого света. Он провел по лицу руками и улыбнулся:
— Вот я и осмотрел достопримечательности дома молитвы. А вот, кажется, сам хозяин?
По берегу хауза спешил мулла-имам. Он запыхался. Полы его халата распахнулись.
— Касымджан! Мы рады видеть Вас здесь. Вы... вы не забыли обычая наших дедов.
Касым довольно сухо перебил имама:
— Да-да, я не забыл. Я сделал, как Вы сказали.. Самое хорошее время — никого нет.
— Вы правы, Вы правы, — залебезил мулла Тойчи.
— Я думаю, здесь очень удобное место. И прохладно, и птиц много. Вдали от шума, не правда ли, старик? — и посетитель, криво усмехнувшись, посмотрел на суфи.
Смахнув капельки пота, выступившие на лбу, мулла-имам проговорил, словно чувствуя какую-то неловкость:
— Очень, очень удобное, — и совсем невпопад добавил: — Наш суфи — добрый мусульманин.
— А, это хорошо, — заметил Касым и снова пристально посмотрел на Мансура.
Уже выйдя на улицу, гость вполголоса сказал, обращаясь к мулле-имаму:
— Надо подумать, не лучше ли нам собираться здесь. Здесь ночью никого не бывает поблизости?
— Да-да, здесь очень хорошо. Как Вы говорите, прохладное и удобное место, — многозначительно протянул мулла.
Проводив гостя, имам долго смотрел ему вслед. Благодушно поглаживая выпиравший из-под халата живот, он сказал:
— Все бы советские люди были такими.
— Какими? — переспросил суфи.
— Какими? Ну, обходительными. А ведь он большой силы человек. Да, послушайте, суфи, не закрывайте крайнего окна, вы видели, ласточки свили гнездо под потолком. Закрывая окна, вы можете погубить птенчиков. Охо-хо, и птицы чувствуют близость аллаха. — И вдруг, вспомнив что-то, лукаво добавил: — Мечеть очень удобное, прохладное место. А? Не правда ли?
Имам удалился, посмеиваясь, словно он сказал что-то остроумное...
У себя во дворике суфи остановился перед сестрой и сказал:
— Нехорошо.
— Что нехорошо? — с раздражением спросила старушка. — Что Вы ворчите?
— Нехорошо... Ты знаешь, зачем Касым приходил? Молиться?..
* * *
Через распахнувшуюся калитку ворвался ветер, неся пыль, соломинки, желто-красные листья. Бумажка заметалась по дворику. Дверка с треском захлопнулась. Рядом с кустом потемневших георгин стояла закутанная в паранджу женщина. Она не двигалась. Мансур поколебался с минуту, отошел в сторонку и, стукнув кетменем о землю (он закапывал на зиму виноградную лозу), крикнул в сторону михманханы:
— Сестра, а сестрица, тут к тебе женщина пришла. Поглядывая уголком глаза на неожиданную гостью, Мансур поплевал на руки и взялся за отполированную многими годами работы рукоятку кетменя.
— Сейчас! Иду! — послышался голос.
В этот миг женщина сделала странное движение, что-то вроде прыжка, и громко рассмеялась. Паранджа и чачван упали на супу. Дворик наполнился смехом. Mapхамат-ой бросилась тормошить стариков.
— Вы думали, какая-то старуха... А это я. Старики засуетились, поставили самовар. Суфи вглядывался в лицо вкучки, ища в нем перемен. Но она все так же была весела и беспечна. Лишь временами глаза ее на мгновенье затуманивались. Только на мгновенье. Мархамат тотчас начинала щебетать, смешить стариков. «Совсем как раньше», — подумал старик.
За чаем он осторожно кашлянул и как бы невзначай спросил:
— Хм, а это, впрочем, не мое дело, ты, внучка, значит, прячешь личико под сетку?
Словно тень скользнула по лицу молодой женщины. Но, беспечно отмахнувшись рукой, она шутливо заметила:
— О нет, не думайте, что Касым заставляет, нет. Совсем нет, но он очень попросил: «Я не хочу чтобы на мою розу упал дурной взгляд, моя возлюбленная». Он такой забавный. Он говорит: «Ну, поноси паранджу, ради соседок и тетушек».
Мархамат, вскочив, показала, как говорит ее муж, прижимая руки к сердцу и слегка кланяясь: «Мои ресницы подобны метле, подметающей пол у твоих ног».
— Ради любви идут на жертву, — торжественно прибавила Мархамат. — Касым такой умный и добрый, а свекровь прицепила кузминчак от дурного глаза. — И молодая женщина показала бусинки, похожие на искусственные глаза, пришитые к борту паранджи.
Старик пристально посмотрел на Мархамат.
— А ты?
Она потупила глаза:
— Я... не хожу учиться... Он так просил меня пока не ходить... но я обязательно пойду!
В глазах Мархамат мелькнули беспокойство и печаль.
— Да...— протянул Мансур, — когда у человека над головой вода, не все ли равно — на одну четверть она или на сто четвертей.
Мархамат вскочила.
— Ну, мне надо бежать... Он такой беспокойный. Посыплется опять на мою голову куча упреков.
И, уже невесело улыбаясь, она одела паранджу и подошла к двери.
— Вот и дождь пошел... Осень...
В голосе ее чувствовались слезы.
— Внучка, — позвал Мансур, — родная, подойди сюда. Скажи, что сделали с тобой они, кто подменил мне мою веселую Мархамат? Лицо у тебя похоже па осеннюю листву. Скажи, что случилось?
— Сказать, дедушка...
И Мархамат-ой рассказала о том, что муж ее Касым ночами сидит над какими-то рукописями и книгами. Ему приносит много бумаг некий каландар — бродячий монах. Говорят, он вернулся из ссылки. У этого дервиша есть настоящий кашкуль — коробка из кокосовой скорлупы. Заходя в дом, он курит священную траву исрык, чтобы дым ее отгонял злых духов. Сам Касым много пишет; В отсутствие мужа Мархамат-ой из любопытства рылась в книгах и бумагах и... ничего не поняла. Все написано арабскими буквами. На вопрос ее муж ответил: «Я изучаю классиков литературы».
— Но почему к нему ходят какие-то люди, прячущие свои лица? — со слезами в голосе говорила Мархамат. — Почему по ночам он с ними ходит в вашу мечеть? Что они там делают?
И тут она воскликнула:
— Дедушка, Вы знаете арабский язык? Вы, наверное, знаете. Вы должны знать, Вы духовное лицо, суфи. Старик покачал головой:
— Нет, янаю очень плохо, с трудом разбираюсь. Нас не удостоивали наши имамы такой премудрости. Но принеси, я посмотрю.
Унылый дождь шелестел по листьям тута. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Но в михманхане яркий свет лампы играл на чашках и чайниках, расставленных в алебастровых нишах. На полу, в точности «по закону», были разостланы паласы — один побольше — посередине, три — вдоль стен (из них — один коврик для почетного гостя) и один поперек — против входа. В прихожей шумел самовар.
Мулла Тойчи удобно расположился на одеялах и круглых подушках. Сегодня он был доволен. Еще не перевелись благочестивые прихожане, вроде Мансура, почитающие закон и соблюдающие старые, добрые обычаи. Неплохо, что Мансур не забывает почтить своего духовного наставника хорошим ужином. Правда, плов изготовлен не на бараньем сале, а на ватном масле, но что же требовать с бедняка, полунищего. При всем том, Мансур повар неплохой, и плов получился вполне удовлетворительный.
У муллы Тойчи возникают деловые мысли.
— У Вас, суфи, неплохая джугара. Вы много собрали ее? Ее очень любят мои голуби. Отсыпьте мне немного в мешочек, — тянет мулла-имам. — Кстати, я вижу, у Вас недурной урожай красного перца. Хорошо было бы, если б вы мне помогли немного. У меня дома совсем нет красного перца...
— Правду говорят про муллу Тойчи Суюнова, что он из облаков умеет извлечь пользу, — с легким раздражением шепчет своей сестре Мансур. — Но разве откажешь?
Имам совсем расчувствовался. Смакуя тающий во рту кусок дыни, он пускается в отвлеченное рассуждение о том, как надо призывать на молитву, и снисходительно поучает суфи. Тот сидит в привычной почтительной позе и старается всем своим видом показать внимание. Но это ему плохо удается. Он нервно теребит свою бородку.
Дребезжание запора калитки заставляет Мансура вздрогнуть. Сквозь шум усилившегося дождя слышится шлепанье по лужам. Догадка мелькает в мозгу старика, он поспешно встает.
— Постойте, постойте, я доскажу, — говорит мулла Тойчи. — При азане надо голову поднимать немного вправо и к небу, ибо это придает...
Стряхивая воду с плаща, в комнату стремительно вошла, неся с собой свежесть осенней ночи, Мархамат-ой.
— Здравствуйте, дедушка, я принесла книгу и бумаги. Вот, почитайте. Но... но у Вас гость.
Предчувствие непоправимой беды сжало сердце Мансура. Искоса взглянув на имама, он дрожащими руками взял небольшую книгу в тисненом кожаном переплете. Строчки прыгали перед глазами, и суфи потянулся к полочке, чтобы взять очки.
Тойчи-имам, с явным любопытством поглядывая на смущенную женщину, небрежно взял принесенную книгу и перелистал несколько желтоватых пергаментных страниц.
— Ого, — проговорил он даже с некоторым уважением, — я вижу, наши советские женщины, хоть и забыли, что стыд обнаженного лица сильнее смерти, читают коран... священное писание... исправляются... Очень хорошо.
— Какой коран? — встрепенулся Мансур. Он быстро переглянулся с Мархамат. Кровь прилила к щекам молодой женщины. Она оперлась рукой на обитый медью сундук и беззвучно шевелила губами.
— Да, хафтияк, священное откровение пророка. Благодарение аллаху, Касым воспитывает свою жену в духе правой веры. — И мулла Тойчи начал перелистывать бумаги, принесенные Мархамат-ой.
Молодая женщина плакала. Мансур растерянно суетился около нее.
Они не видели, как переменился в лице мулла-имам. Губы, борода его прыгали, лицо посинело. Он широко открыл рот, дыхание со свистом вырывалось из его груди. Казалось, вот-вот с ним приключится удар... Он с трудом поднялся и сделал шаг к Мархамат-ой.
— Женщина, — прохрипел мулла, — кто дал тебе эти бумаги?
Мархамат не произнесла ни слова. Она с ужасом смотрела на искаженное лицо муллы.
Перешагнув через дастархан, мулла Тойчи замахнулся. Он хотел ударить Мархамат. От резкого движения бумаги разлетелись по комнате.
— Скорее, скорее... подберите.
Имам, жалобно охая, ползал по паласу, перевернул чайник, разбил пиалу.
Засовывая впопыхах ноги в калоши, мулла Тойчи резко наклонился, и снова целая пачка бумаг упала у порога.
— Стойте, стойте! — вскрикнул Мансур.
Но шаги муллы уже слышались во дворике. Грохнула калитка.
— О, — сказала Мархамат, — что это с ним приключилось?
Мансур ворчливо проговорил:
— Наш имам только и делает, что перевеивает гнилую солому...
Переход от шума, суеты к полнейшей тишине был так неожидан, что все казалось сном. Лишь разбросанная посуда, скомканный дастархан да качающаяся на шнуре под низким потолком лампа свидетельствовали о прошедшей бурной вспышке настоятеля мечети.
— Что он, дивана? — жалобно протянула Мархамат. — И зачем он забрал книгу и листки? Он побежал, наверное, к Касыму. И потом, как же так? Я думала, паранджа — это так, а он? Что же я буду делать? Ведь эту книгу читал он каждый день вслух... Коран, священное писание. Что вы там смотрите, дедушка?
Мансур нацепил на нос старенькие очки в проволочной оправе и, с трудом разбирая запутанный арабский почерк, читал чье-то письмо, оброненное в суматохе Тойчи. Суфи, казалось, не слышал вопроса внучки.
Вошла старушка. Она нежно погладила по щеке Мархамат-ой и, бесшумно двигаясь, убрала посуду и дастархан. Мансур, усиленно шевеля губами, водил пальцами по строкам. Можно было разобрать, как он читает: «...привлеките Зайнутдинова, он верный человек... Поглядывайте на...»
Со двора доносился монотонный шум дождя. Далеко-далеко зазвенел трамвай.
Старик перевернул листок, убедился, что на обороте ничего не написано, осторожно снял очки, спрятал в футляр. Встал, подошел к окну, прикрыл форточку и тут же снова ее открыл. Долго смотрел в темное окно.
— Мархамат,— словно невзначай заметил он, — тебе... э... нельзя возвращаться домой к Касыму.
Молодая женщина вопросительно посмотрела на деда.
— Мархамат, твой муж... нехороший человек... Да-да. — Он сделал резкий жест рукой. — Я тогда же удивился: человек новых взглядов и — паранджа. А теперь я вижу — и у ласковой змеи в зубах яд...
Суфи, путаясь и сбиваясь, рассказал внучке о всех своих подозрениях: о ключах от мечети, которые берет по вечерам мулла Тойчи, об огоньке, горящем ночью. И, наконец, вот эти письма...
— Летучие мыши замышляют... я не знаю, что они замышляют, но плохое...
Суфи замер, ему послышались приглушенные голоса, скрип калитки...
— Я знаю, куда я пойду,— печально проговорила Мархамат, подбирая с пола письма, — у меня одна дорога. Перо дошло до точки и... сломалось... Ох! Кто это?
Суфи опешил. В дверях стоял мулла-имам и криво улыбался. Глаза его блудливо шарили по комнате. Конец мокрой чалмы свисал на лоб. Халат весь был в грязи. Тойчи, видно, спешил.
— Я... я забыл у вас мешочек с джугарой... для моих голубей.
Имам шагнул вперед, протянул руку. Но он смотрел не на мешочек, а на бумаги, которые держала Мархамат. С неожиданным проворством он попытался схватить ее за руку.
Молодая женщина стремительно выбежала из комнаты.
Сопя и отдуваясь, натыкаясь на косяки, побежал за ней мулла. Мансур растерянно заметался, распахнул дверь на двор. Поток дождя хлестнул в лицо.
Старик отступил в комнату, бормоча:
— Горб ему на горб, где мои кавуши? Сестра, дай же халат!
С минуту он возился в прихожей, натягивая на себя грубошерстный чапан. Как проклинал он потом свои сборы!
Тяжело шагая, скользя по расплывающейся грязи, суфи выбрался на улицу. Было промозгло, сыро, темно. Потоки холодной воды с шумом низвергались с крыш.
Вдалеке, в дрожащем свете фонаря, промелькнули сквозь сетку дождя две удаляющиеся тени.
Послышался приглушенный крик. Мансур заспешил, спотыкаясь и еле передвигая ноги, поминутно попадая в рытвины, наполненные водой. В двух шагах от фонаря он остановился. С блестящего мокрого тротуара сбегали на дорогу мутные струйки. В лужах вскакивали и лопались пузыри.
В шуме непогоды разнесся над плоскими крышами махалли тонкий старческий голос:
— Вай-дод! Помогите! Вай-дод!..
На земле, припав головой к столбу, лежала Мархамат.
Когда подняли девушку и понесли, суфи, шатаясь, выбрался из толпы. Схватившись за голову руками, он хрипло кричал — совсем так, как он кричал десятилетия с верхушки минарета:
— Прогнили служители бога, прогнил бог, имеющий таких служителей!