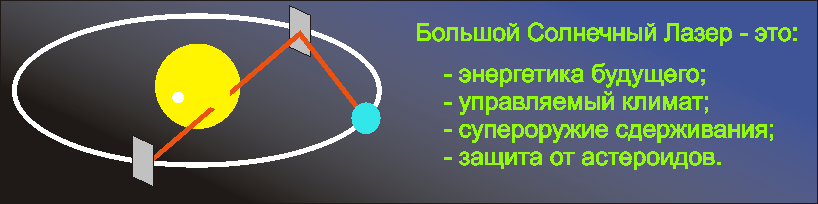
Scanned by: Ruslan Sharipov (November 17, 2008, Ufa).
Рассказ
Порыв свежего ветра согнал серую вату тумана. Стали видны мокрые красные камни, сбегающая неровной лентой крутая тропа и совсем внизу — плоские крыши, сады, ограды из камней. Близился отдых после далекого, тяжелого пути. Кони, почуяв привал, шагали бодрее, потряхивая гривами.
— Кажется, Суфиан? — сказал дядя Митя.
— Да, Суфиан-кишлак, Верхний Суфиан, — ответил переводчик Назар. — Дальше на той стороне долины — Нижний Суфиан.
Суфиан оказался большим горным селением с высокими, двухэтажными, сложенными из грубых обломков известняка домами, с крутыми каменными улочками.
На скалистом уступе у въезда в кишлак стоял горец. Сложив руки рупором, он надрывно кричал что-то в провал зиявшего у самых его ног ущелья. Издалека, с другой стороны ущелья, доносился ответ.
— О чем он? — спросил дядя Митя.
Переводчик прислушался.
— Это джодвора — глашатай. Он кричат: «Эй вы, козлиное племя, если кто-нибудь из вас сунется к нам, в верхний кишлак, мы ему отрежем уши!» — Послушав его еще немного, Назар прибавил: — Он что-то говорит о девушке. Не пойму.
Неприветливо встретили нас жители кишлака. Не было обычного оживления, гостеприимных, радушных расспросов.
Горцы кучками толпились на улицах, сумрачно, вполголоса переговаривались.
В михманхане с почерневшим от дыма костра низким потолком к нам подсел председатель сельсовета Сайфи Рахман, раис, как назвал он себя. Подбрасывая в костер сучья, он расспрашивал о цели приезда, о делах, которые заставили нас поздней осенью пробираться по горным тропам, через снежные перевалы.
— Мы — статистики, едем по делам переписи. Нас пугали: «Через перевалы не пройдете, ноябрь уже», — а мы вот пробрались.
Сайфи Рахман осторожно кашлянул и проговорил:
— Снег не упадет на голову — счастье путнику в горах.
Горец пытливо вглядывался в наши лица. Он, видимо, заметил, что мы прислушиваемся к крику, настойчиво и нудно доносившемуся в михманхану. Вот уже около часа глашатай на скале кричал, не унимаясь. Сайфи Рахман покачал головой.
— У нас джанг, — коротко бросил он.
— Что? — испуганно переспросил дядя Митя.
— У нас джанг. Война. Верхний Суфиан воюет с Нижним Суфианом. Мы здесь, в верхнем кишлаке, гальча — таджики, в нижнем кишлаке канглы — узбеки. У нас давнишняя ссора...
И Сайфи Рахман рассказал печальную и старую, как скалистые горы, историю о вражде двух селений. Почему возникла эта вражда — никто не знал. Сохранились смутные предания о кровавом столкновении в далеком прошлом между местными жителями — таджиками и пришельцами — узбеками. С тех пер, вот уже много столетий, жители соседних кишлаков ненавидели друг друга. Жители Нижнего Суфиана презрительно называет своих соседей быками: они пашут на волах. За нижнесуфианцами укрепилась пренебрежительная кличка «истыханхур» — грызущий кости: они занимаются скотоводством и едят много мяса. Особенно разгорается вражда, когда на землях Верхнего Суфиана дозревает урожай, а чабаны гонят своих овец с горных джайляу в Нижний Суфиан мимо полей.
— Опять недавно, — рассказывает Сайфи Рахман, — их пастухов избили наши дехкане. Тогда они стреляли, и...
Глаза горца загораются гневом. Он машет руками, вскакивает.
— Почему же ваши начали бить пастухов? — спрашиваем мы.
— Целый год у нас стоял мир. Но ишан сказал: «Проклятые пожиратели костей гонят свои стада через наши поля. Отнимите у них баранов и побейте пастухов так, чтобы они забыли дорогу через земли Верхнего Суфиана».
— А вы? Вы ведь раис? Ведь у нас четвертый год Октябрьской революции!
— Что я мог сделать?.. Разве меня послушали бы? Наши избили пастухов и забрали двенадцать баранов... Пастух Магаруп выстрелил в Рыжебородого, и Рыжебородый умер... Долг крови лежит теперь на Суфиане.
После минутного раздумья Сайфи Рахман с некоторой горечью добавил:
— Баранов взял ишан в жертву аллаха. А у нас теперь джанг. Известно ведь: пока город не загорится, шашлык ишана не изжарится...
В комнату вошли два молодых парня и девушка и подсели к костру. Девушка была молода и очень красива. Спутники ее, чем-то расстроенные, нетерпеливо ждали, когда Сайфи Рахман кончит рассказ. Наконец один, помоложе, поднял голову и сказал, ни к кому не обращаясь:
— Я — Гуляб-шо, а это мой брат и наша звездочка — сестра Биби-Худайджа. Можно рассказывать?
Сайфи Рахман помрачнел и пробормотал что-то о, безбородых, которые лезут в блюдо старших ногами.
Мы налили им по пиале чая и приготовились слушать.
— Вот, — зло и вызывающе поглядывая на раиса, заговорил Гуляб-шо, — хочу рассказать о наших делах. Раньше был закон — ни один таджик не брал у нас в горах девушку узбечку в жены. Ни один узбек не женился на таджичке. Год назад жители Суфианского ущелья решили: кончилась уже давно эмирская власть, пора кончать вражду... Вы — люди города, скажите, правильно ли мы надумали? И вот мы, молодежь из Верхнего Суфиана, узнали, что к нашей сестре Биби-Худайдже посылает сватов Касым-ака — сын Высокого Мурада, охотника из нижнего кишлака. Биби-Худайджа, как водится у нас в горах, сама выбирает жениха. Она давно выбрала Касыма, молодого и храброго йигита. И мы решили: «Быть свадьбе. Пусть так кончится вражда». Старый закон гор говорит: когда девушка возьмет мужа из семьи врага — конец на вечные времена кровавому долгу.
Гуляб-шо передохнул — видимо, он не привык произносить длинные речи.
— Быть бы свадьбе, хотя наши отцы и деды еще враждуют. Сестра сказала: «Я устрою шингари», — так у нас называется, когда невеста убегает с женихом в его селение. Но тут вышло плохое дело. Надо сказать, что Высокий Мурад, когда у него родился сын, по обычаю, посадил десяток тополей и сказал: «Мой сын вырастет, десять тополей вырастут. Когда Касыму придет пора жениться, он срубит десять тополей и построит себе дом».
— Хороший обычай, — сказал дядя Митя.
— Хороший обычай, — повторил Гуляб-шо. — Однако правильно говорят: «У муллы стыда нет». Наш ишан пронюхал, что готовится свадьба. Тогда он послал ночью своих людей в нижний кишлак. Они срубили все десять тополей и сбросили их в горный поток. От деревьев не осталось даже щепки. Теперь Высокий Мурад в смертельной обиде кричит: «Я убью сына, если он возьмет себе жену у этих безрогих быков».
Звонким, певучим голосом заговорила Биби-Худайджа:
— Ишан, пусть он будет проклят... Он сказал мне: «Если ты, Худайджа, выйдешь замуж за пожирателя костей Касыма, мы тебя вытащим из его дома и, опозорив, побьем камнями». Как он смеет так говорить? Разве у нас живы старые проклятые законы эмиров? Разве у нас смеют приказывать ишаны? Мы слышали. что там, на равнине, муллы и имамы осмеливаются говорить только шепотом, а в мечетях юноши и девушки танцуют и поют.
Заговорил старший брат Саид, до сих пор сидевший молча:
— Мы не хотим слушать слова ишана. Ведь выплюнутого обратно в рот не берут... Помогите нам.
— Помогите нам, — повторил Гуляб-шо.
— Помогите мне, — умоляюще сказала Худайджа.
Дядя Митя растерянно поглядывал то на нас, то на молодых людей, то на Сайфи Рахмана. Горец помрачнел, его рука нервно поглаживала бороду, щека дергалась.
Тогда дядя Митя сказал, запинаясь:
— Очень жаль, мы всего-навсего статистики... Вам надо обратиться в город... и...
Видимо, он сам понимал всю беспомощность своего совета. Ледяные стены гор окружали долину. Сотни километров горных хребтов, недоступных перевалов отделяли кишлак от ближайшего города.
Юноши сжали кулаки. На глазах Худайджи заблестели слезы...
И вот, когда разговор стал особенно тягостным, низенькая дверца с треском распахнулась, и в комнату под оглушительные крики, пронзительный свист наев, звон бубнов, ворвались люди.
— Русские гости, мы пришли позабавить вас плясками. Посмотрите, как танцуют у нас в горах.
И вот начался танец. Это был древний охотничий танец, вернее — пантомима. Человек, одетый в медвежью шкуру, то становился на четвереньки, то поднимался назадние лапы и угрожающе рычал. Он изображал медведя.
Девушка с кувшином идет по тропинке. Это Худайджа. Она легкомысленна — эта девушка. Она поет о своем любимом.
Воодушевленно, играют музыканты. Звуки то печальной, то грозной мелодии словно раздвигают стены михманханы, и за ними чудятся вечно снежные горы, зеленые арчовые леса, отвесные скалы.
На тропинке юноша — молодой охотник. Неожиданная встреча. Какой стыд! Девушка наедине с молодым человеком! Но почему так лицемерно опущены глаза, почему так радостна ее улцбка, когда юноша, опираясь на старое громадное ружье, поет о красоте возлюбленной, подобной тюльпану. И вдруг... врывается грозный рев. Хозяин скал — медведь! Приплясывая и взмахивая громадными лапами, он кидается на девушку, сгребает ее в охапку и выбегает из михманханы. За ним с криками, с визгом бросаются все участники танца.
Последним выбегает Сайфи Рахман. Его лицо перекошено от ярости. Он успевает бросить:
— Это Касым... Они подстроили шингари...
Мы спешим на улицу. Уже совсем темно. По кишлаку несутся крики «Вай дод!». Бешено лают собаки, В ночной тьме далеко впереди двигаются десятки красных огоньков — по ту сторону ущелья, в кишлаке Нижний Суфиан, зажигают факелы... Шум погони затихает.
Куда-то в темноту, вслед за Сайфи Рахманом, уходит дядя Митя.
Возвращаемся с переводчиком в михманхану. Зябко, сумрачно. В углублении земляного пола светятся красные угли. Мы ждем... Дяди Мити нет с нами, на сердце тревожно. За дверьми падает густой, мокрый снег.
Мы дрогнем под одеялами. Ночью просыпаюсь от холода и слышу шаги, говор. Дядя Митя долго вполголоса беседует с кем-то.
Утрем склоны гор, улицы кишлака нестерпимо блестели под лучами солнца, сияли ледяные зубцы гор, над ними синело бездонное небо. Великолепная картина! Но мы были подавлены: перевалы закрыты. Нам не удастся выехать, может быть, до весны. А тут, как на зло, такие тревожные события...
Дядя Митя исчез с утра. Когда мы пили чай, забежал Сайфи Рахман.
— Ну, беда! Касым устроил шингари и увез к себе Худайджу, а наши юноши помогли. Ничего не пойму!.. Все перевернулось. Одно знаю — будет теперь большая драка между Верхним и Нижним Суфианом.
И раис ушел, проклиная все на свете. Внезапно по кишлаку пронеслись частые, тревожные удары.
— К мосту, к мосту! Джанг! К мосту! — неслись вопли по селению. Били в котлы, в тазы...
У моста, на берегу шумливой реки, чернела на снегу толпа верхнесуфианцев. По склону горы бежали группами и в одиночку с дубинками, дедовскими мултуками, кистенями канглы из Нижнего Суфиаиа.
У моста издавна разрешали свои споры враждовавшие кишлаки. Немало было пролито здесь крови.
Жители враждующих кишлаков медленно сближались. Пока не бросили еще ни одного камня. Шла только перебранка. Острословы изощрялись в издевках на тему о быках и пожирателях костей. Мальчишки выбегали вперед и задирались между собой.
Дехкане соседних селений угрюмо разглядывали друг друга, но видно было, что ни у кого нет особого желания первым лезть в драку.
И в каждой толпе суетились фигуры в белых чалмах, в темных халатах добротного сукна — ишаны и настоятели мечетей. Они кричали громче всех, злее всех. Они вспоминали старые обиды, разжигали чувство мести.
Но вот грохнул оглушительный выстрел из старинного ружья. Он прозвучал сигналом. С дикими, угрожающими выкриками двинулись вперед пахлаваны — силачи. Взмахивая тяжелыми дубинками, они грозно наступали друг на друга.
Но внезапно обе толпы остановились. Воинственные призывы смолкли. Замерли, глупо растопырив руки, пахлаваны.
По снежному полю в свободном пространстве между толпами двигалась большая группа людей. Подкрепление? Но кому?
— К нам, к нам! — кричали верхнесуфианцы, ибо они узнали своих юношей.
— Сюда скорее! — заголосили пастухи из Нижнего Суфиана. Они увидели своих молодых йигитов.
Молодежь несла над головами красные флаги и растянутый на палках плакат. Шли дружно, рука об руку — узбеки и таджики, девушки и парни.
Они шли и пели песню.
Они пели «Восэ», народную песню бухарских горцев — бедняков и батраков, восставших в 1885 году под руководством кишлачного кузнеца Восэ против бухарских баев и сардаров. Батрацкий мятеж был вскоре раздавлен эмирскими войсками, сам Восэ убит.
Но гордую песню повстанцев никогда не забудут горцы.
Таджикская молодежь взялась за руки и выстроилась цепью к толпе верхнесуфианцев. Узбекские юноши и девушки встали перед своими. Напряженная минута.
Мы ахнули: вперед вышел дядя Митя.
Он одернул на себе потрепанный ватник, откашлялся и сказал:
— Братья узбеки, братья таджики, сегодня Седьмое ноября — великий, радостный день. Юноши и девушки Верхнего Суфиана и Нижнего Суфиана решили вместе праздновать годовщину революции. Пусть же праздник трудящихся людей всего света станет праздником мира жителей этой долины.
Молодежь зааплодировала, закричала:
—Пусть живет Октябрь!.
— Вы — узбеки, мы — таджики, — закричал Гуляб-шо. — Моя сестра вышла замуж за узбека. Ну и что же? Нужно ли убивать друг друга из-за этого? Вспомните Восэ. Кто он был? Узбек? Таджик? Никто не знает. Он был бедняк кузнец. Под его богатырской рукой шли против эмира батраки — и узбеки и таджики — бить своих жестоких притеснителей. И теперь, когда слово Ленина обратило баев и имамов в пыль, неужели вы, дехкане и пастухи, поддадитесь их лживым наущениям и будете делать то, что им на пользу?
Каждое слово Гуляб-шо горело как пламя... Толпы недавних врагов держались еще порознь, но никто уже не думал о драке... На лицах появились робкие примиряющие улыбки... Ишаны куда-то исчезли.
К большому камню подошел седой таджикский певец, рядом с ним, с дутаром в руках, встал узбекский бахши. Они сели на камень и согласно запели героическую песню о Восэ: