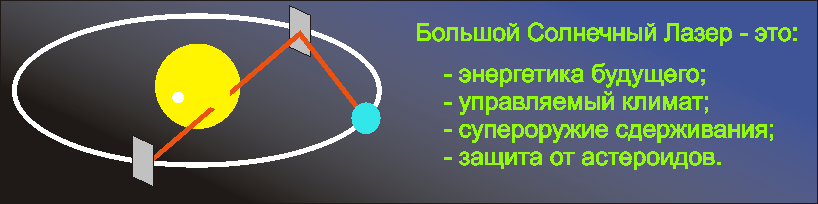
Scanned by: Ruslan Sharipov (November 16, 2008, Ufa).
Рассказ
I
Представьте себе лицо нежное, даже женственное, с правильными, словно высеченными из розового мрамора, чертами, с тонкими бровями и карими бархатными глазами, с чуть кудрявящейся клиновидной бородкой. Негромкий музыкальный голос, неторопливый выговор, осторожные, плавные движения рук, легкая походка — все так не подходит, все так противоречит сложившимся представлениям о людях тяжелой и грубой профессии, что не хочется верить, когда человек произносит смущенно: «Да, я сипайчи, я — речной водолаз».
О своей трудной работе водолаза Нишанов говорит обычно мало. В беседе он предпочитает говорить о цветах. Вот и сейчас Нишанов с живейшим интересом рассматривает скромный цветок, чудом уцелевший под злобными горными ветрами...
— Я бы, — говорит он, и по лицу его светлой волной разливается мечтательное выражение, — я бы вмесго денег и метров ситца премировал людей розами. Как прекрасно держать в руках бархатную розу... Правда, Закирджан?
Вопрос относился к простоватому парню, сидевшему на камне и трудившемуся в поте лица над подошвой потрепанного сапога.
Закирджан испуганно вскинул голову, внимательно посмотрел на Нишанова и пробормотал:
— О да, прекрасно, — и добавил тише: — Конечно, такой, как вы... загребающий премии охапки премий... бархат, часы, шелк, баранов... Вам теперь розы понадобились.
Бормотание его перешло в крик:
— Смотрите, любитель цветов, вой вам сейчас возвестят о преподношении розы.
Лагерь зашевелился, по тропинкам забегали, засуетились строители. Жалобные и в то же время призывные звуки сурная разносились по окрестным холмам и возвращались эхом обратно. Вслед за сурнайчи шагал высокий, облаченный в пышный, нестерпимо зеленый халат, джарчи — глашатай Сафар, по прозвищу Ученая Голова. Кто и когда впервые так назвал Сафара — неизвестно. Несмотря на полное отсутствие основания, ибо Сафар с трудом разбирал грамоту, он носил прозвище с превеликой гордостью и серьезно обижался, если его звали просто по имени и фамилии.
Джарчи шел важный и напыщенный. Он самодовольно поглаживал пожелтевшую, прокопченную дымом ночных костров бороду и выпячивал вперед свое тощее брюхо, которое никак не росло, несмотря на многочисленные обильные пловы.
Сейчас джарчи был в зените своей силы и могущества. Его уста были сжаты, брови нахмурены. Он высокомерно смотрел с высокого, сброшенного силой взрыва обломка скалы на сбежавшихся со всех сторон строителей: всем своим видом Сафар Ученая Голова хотел показать, что в его, именно в его, власти наградить или наказать, осчастливить или ославить любого человека, хотя все отлично понимали, что он — джарчи — лишь передатчик мнений авторитетных людей.
Сафар Ученая Голова заговорил. Вопреки обычаям присущим профессии джарчи, он заговорил почти шепотом. Но именно это заставляло всех слушать особенно напряженно и внимательно. Даже на расстоянии десятка шагов свистящий шепот этот был слышен совершенно отчетливо.
— Если бы только каждый осознал свои недостатки! Тогда он бился бы головой об утесы. — Голос джарчи зазвучал громче. — Если бы каждый видел свою лень, он сгорел бы, как щепка, в костре стыда.
Сафар мгновенно обмотал голову поясным платком, наподобие чалмы, выпятил живот и, ударяя по земле псохом начал с важностью прохаживаться по узенькой площадке, покрикивая:
— Эй, эй! Кто тут того, кто тут этого! Давай, давай! В толпе раздались смешки, хотя большинство еще и не понимало, в чем дело.
Походив так с минуту, джарчи остановился, завращал глазами и пронзительно чужим голосом завизжал:
— Эй, Абдилло! Эй!
И после паузы — еще пронзительнее:
— Эй, Абдилло! Плов готов? Ай-яй-яй, я так много сегодня потрудился, а ты, ишак этакий, до сих пор не сварил обед. Ай-яй-яй! Я тут целый день распоряжаюсь, а ты лодырничаешь...
Колхозники смеялись. Джарчи был вполне доволен. Он сорвал с головы чалму и хотел продолжать, как вдруг, расталкивая передние ряды, вперед к камню выбралась странная фигура — человек с головой, повязанной по-женски платком, в вывернутом мехом наружу тулупе.
— Убирайся, — завопил странный человек, — уходи!
— Что случилось? — спросил джарчи, всем видом своим показывая, что он страшно испугался.
— Уходи, говорят тебе! Ты мешаешь!
— Мешаю?
— Убирайся! Спать мешаешь.
— Кому? — недоумевал джарчи.
— Нашему любимому и уважаемому душеньке Закирджану... Самому выдающемуся лодырю.
Толпа разразилась хохотом. Некоторое время никто не мог разобрать, что говорит Сафар. Закирджан начал выбираться из толпы, бормоча ругательства, провожаемый возгласами.
— Закирджан, какой у тебя рекорд? Закирджан, захватите подушечку...
— Берегитесь, злоязычный джарчи! — кричал все громче парень в вывернутой шубе. — Берегитесь, ибо наш храбрый Закирджан собирается бросить вас в Сыр-Дарью.
Джарчи, к общему удовольствию, забегал по камню, издавая вопли. Но тут же оборвал комедию и очень серьезно объявил имена и фамилии отстающих и всех тех, кто не желал работать как следует.
— Таких нам в коллективе не надо... Умному достаточно намека, а глупому мало палки. Не хочет Закирджан работать — пусть уходит с позором. Народ строит плотину, народ отлично обойдется без тебя, Закирджан.
Джарчи стоял на камне, властный и грозный; ветер трепал его густую бороду.
— А теперь я скажу о нашей гордости, о тех, кого надо похвалить так, чтобы слова похвалы поднялись выше седьмого неба и ветер разнес их имена то всему свету. Вот они.
Для важности он достал из-за пояса аккуратно сложенный лист бумаги. Но он не нужен был ему, джарчи хорошо знал все фамилии и так.
— Премируется бараном наш сипайчи Зарип. Вы знаете Зарипа Выносливого? Да, да, эта тот самый. Дорогой Зарип, не забудьте пригласить меня на плов. Премируется товарищ Нишанов, тоже бараном. Товарищ Нишанов, я верю в ваше гостеприимство.
Закирджан, стоявший с краю, не мог удержаться!
— Вот вам и роза, товарищ Нишанов. — Он завистливо хихикнул. — Роза на пять пудов. Хорошенький цветочек.
И, в восторге от своего остроумия, он продолжал долго еще хихикать.
Все расходятся. Сафар и Нишанов смотрят друг на друга. Вернее, смотрит на Нишанова Сафар, а Нишанов потупя глаза, равнодушно разглядывает носки своих щегольских сапог, неведомо каким образом сохраняющих блеск в непролазной грязи, какая повсюду на стройке.
— Ну! — говорит нетерпеливо Сафар.
Нишанов молчит.
— Опять вы думаете о ней?
— Опять. — Нишанов улыбается очень добродушно.
— Эх!
Они друзья. Их сдружила совместная работа здесь на плотине. Они всегда вместе, но они всегда спорят. Все споры затевает Сафар.
— Эх, и зачем только мне пришлось сойти с гор сюда в болото!
Сафар Ученая Голова — горец. Он тяжело переносит воздух долины, он кажется ему густым и тяжелым.
Сафар даже стесняется своей дружбы с Нишановы. Нишанов — житель равнины —«болотная лягушка» в противоположность «козоедам» — горцам. К тому же, Нишанов слишком заглядывается, по мнению Сафара Ученой Головы, на Отраду Сердца — девушку Фарахад-ой. Отсюда и идут постоянные споры между Сафаром Ученой Головой и Нишановым. И при всем том он, Сафар, обязан чуть ли не ежедневно объявлять всенародно о подвигах мужественного сипайчи.
Сафару есть чем похвастаться — он участвовал в гражданской войне, служил в отрядах красных палочников, именно в тех местах, где развертывается строительство. Судя по рассказам, Сафар истребил легионы курбашей, беков, мирахуров и прочих важных басмаческих чинов.
Сафар снисходительно щурит глаза и говорит покровительственным тоном:
— Где вам, зеленой молодежи, понять переживания храбреца, когда на него скачут с криками «ур!» сотни басмаческих головорезов, размахивающих кривыми саблями. Где понять это вам, не видевшим войны.
Нишанов улыбается и не перечит другу, хотя Сафар совсем не по-дружески намекает на то, что сипайчи отсиживается в тылу.
— В наше время молодые джигиты брали в руки винтовку, а если не имелось винтовки — хорошую дубинку, садились на лошадь и ехали проламывать головы басмачам...
Нишянов чуть бледнеет, но ничего не отвечает.
II
Мутный рассвет просачивается в дверные щели, и сквозь утренний сон доносится настойчивый, неумолчный рокот реки и какие-то странные возгласы и всплески. И в сознании, еще не совсем разбуженном, возникает фантастическая картина ночной реки, омывающей зубчатые темные, холодные скалы, трепетные отсветы желтых факельных огней, длинные, нескончаемые вереницы согбенных фигур, грузно ступающих по мокрым от ночной росы доскам настила моста... Доносятся всплески, похожие на вздохи облегчения, когда с выпрямляющейся спины соскальзывает, удивительно легко, обломок гранита и падает в свинцовый поток .
Тихая песня несется над рекой к вершинам, чуть поблескивающим в свете звезд... Песня врывается и к нам в землянку.
Сон никак не хочет прерываться. И хотя глаза уже видят врезанное в темноту темно-багровое лицо Нишанова, никак не доходит до сознания, почему оно такое странно-красное. Немало усилий требуется, чтобы понять, в чем дело. Это отсвет пламени костра.
И когда, наконец, просыпаешься окончательно и соображаешь, где ты и что ты, то видишь пылающее пламя под огромным котлом и склонившееся над огнем лицо Нишанова.
Нишанов говорит:
— Акаджан! — Это значит нечто вроде «милый брат >. И хотя я совсем не брат ему, звучит это вполне естественно и очень задушевно. — Акаджан, завтрак сейчас будет готов, заря окрасила уже голову большой скалы...
Нишанов чрезвычайно вежлив, и ему совсем не хочется будить спящего. Нишанов никогда не позволяет грубо вырывать человека, как он сам выражается, из колыбели сна. Нет, он с возмущением отверг предложение музыкантов являться ежедневно на рассвете к землянкам сипайчей и оглушающими звуками карнаев будить строителей.
— Душа сипайчи очень мягкая, — утверждает Нишанов, — ее восприятия очень тонкие. Таких свойств требует ремесло сипайчи... Может ли грубый, нервный и запуганный человек умело обращаться с рекой?
Вот почему по утрам, когда только-только можно разглядеть пальцы на вытянутой руке, Нишанов вполголоса читает наизусть какое-либо старинное двустишие, соответствующее месту и времени...
Магических звуков его голоса достаточно: все просыпаются.
Так и сейчас... В мраке обширной комнаты, вырытой в земле, зашевелились люди, послышались отрывистые фразы, покашливание.
Не хотелось вылезать из постели. Под утро спина стала ощущать сквозь толстое одеяло леденящий холод, в то время как лицо и грудь обжигались пышущим от костра жаром.
Но Нишанов неумолим. Он напоминает о делах.
И вот, в ожидании завтрака, словно выполняя урок, пишет по древнему восточному способу, положив тетрадь на колено. Жалкое подобие света излучает допотопный каменный светильник, по-видимому, современник самого Александра Македонского, доходившего, по преданию, до берегов реки, где сооружается сейчас плотина...
Надо написать о многом: и о шумящей извечно реке, и о потрескивающих в костре сучьях карандашного дерева, и о вкусном запахе из котла, придающем сырой землянке домашний уют...
За завтраком происходит разговор, ничтожный на первый взгляд, но очень многозначительный.
— Горцы, зажмурив глаза, бросаются в безумные потоки, несмотря на мороз и стужу, — безразличным тоном говорит Сафар Ученая Голова. Он намекает на то, что бригада сипайчи состоит почти целиком из закаленных жителей скалистых ущелий.
— Истинные мужчины измеряют глубину реки не головой, а ногами, —с приятнейшей улыбкой возражает Нишанов.
— Ну, конечно, болотные лягушки предпочитают греть свое брюхо на солнышке. Да и кто же когда-нибудь в состоянии узреть в лягушке хоть крупицу мужества. Вот наши...
— Не вижу, не вижу, — перебивает Нишанов друга, — не вижу никакой смелости у коз, прыгающих по камням.
Но Сафара и прозвали Ученой Головой за то, что он не терялся в самых трудных обстоятельствах.
— Вот наши горцы. Мой сын пишет, — и он вынул потрепанное письмо, — пишет про наших, что горные храбрецы, даже сраженные пулей, падают головой вперед.
— А сколько славных героев нашего народа родилось в долине! Но оставим это. Лучше поговорим о другом, старый мой друг, о том, какими болезнями болеют у вас там, в горах.
— Никакими, — насторожился Сафар.
Нишанов, посмеиваясь, говорит:
— У некоторых горцев можно встретить очень часто сердечный недуг...
Смешки вспыхивали то там, то здесь. Ибо кто не знал, что Ученую Голову не раз сражали на стройке даже мимолетные взгляды черных, карих, серых, голубых глаз.
Удар попал в больное место. Сафар пробурчал что-то неопределенное и усердно занялся бараньей косточкой.
Но Нишанова трудно остановить.
— Она придет посмотреть, — многозначительно сказал он.
— Она... — закашлялся Сафар, — она увиднт немало достойных подвигов.
— Она мало интересуется головами, твердыми, как кирпич, головами...
Спор явно грозил перейти в ссору, но в этот момент дверь со скрипом приоткрылась и тревожный голос проговорил:
— Вода прибывает... Надо ставить сипаи.
Все вскочили и торопливо направились к выходу.
По долине все еще ползла густая мгла. В предрассветных сумерках шевелились и двигались, точно живые, гигантские треножники, поблескивавшие сквозь туман мокрым деревом... Злобнее, чем обычно, шумела река.
Нишанов, Сафар и остальные сипайчи сбежали вниз по крутой, местами почти отвесной, тропинке к мосту.
Здесь уже много ночей металось на ветру желтое пламя костров и факелов.
Так же, как в недавнем сне, по колеблющемуся пастилу понтонного моста над черной водой у подножья высоких скал двигалась, тяжело ступая, нескончаемая вереница согнувшихся под грузом силуэтов. Монотонно шагали носильщики с глыбами камней на спине, монотонно и глухо отдавались эхом в зубчатых скалах вскрики, и один за другим скатывались в ненасытное лоно реки большие камни...
Сотни тонн камня обрушивались на дно реки, и, несмотря на бешеную ярость течения, гребень перегораживающей плотины становился все выше, все плотнее и прочнее.
Ревела река... Светало. Камни с плеском падали в воду. Сотни тонн камня.
Навстречу нам по мокрому от ночной росы настилу моста шли переносчики камня. В бесконечной веренице людей издалека слышалась звонкая, чуть гортанная песня.
Пела девушка, голосом нежным, похожим на трель флейты, но в то же время таким звучным, что он поднимался 'над ревом закованной реки.
Песня была мягка и величава, как многие узбекские песни, и одновременно чем-то напоминала русскую «Дубинушку».
Под звуки песни свинцовые, тяжелые струи реки светлели, оживали и покрывались бесчисленными ослепительными бликами танцующего жидкого серебра.
Утро вступало в долину с песней девушки...
Вот и она в рядах людей, идущих вереницей. На спине, на подвернутом ватнике, большой камень. Он пригнул стройную фигуру, но лицо девушки, очаровательное, с огромными карими глазами поднято вверх. Непокорные волосы обрамляют его, и косы двумя черными змеями опускаютя чуть не до земли.
Hавстречу девушке идет группа парней. Тогда она начинает петь совсем другое, задорное:
—Фарахад!
Два голоса одновременно произнесли имя, но они звучат по-разному.
Один — мечтательный, нежный. Так говорить можеn только Нишанов. Но, как ни странно, возглас этот принадлежит грубому, неотесанному горцу, козьему пастуху — Сафару Ученой Голове.
Другим тоном назвал имя девушки Нишанов.
— Фарахад! — говорит он резко и повелительно. В тоне его можно прочитать и удивительно глубокое чувство, и недовольство тем, что любимая девушка взялась не за свое, слишком трудное для нее дело.
Девушка вглядывается в посуровевшее лицо Нишанова и с вызывающим смешком восклицает потряхивая косами:
— Бригадир делает то же, что и бригада, и даже больше, чем бригада. А вот и моя бригада.
Она стремительно поворачивается и широким жестом показывает на свою бригаду — десятка два раскрасневшихся, оживленных девушек... Они смеются.
Камни летят в воду. Фарахад, подпрыгивая, убегает. За ней бегут девушки. Ни признака усталости. Веселый смех перерастает в песню.
— Поистине, у нее горная душа, — медленно произносит Ученая Голова. Ясно, что он хочет сказать. Он глубоко убежден, что Фарахад не найдет счастья с жителем равнины...
Нишанов ловит красноречивый взгляд друга и медленно произносит, вдумчиво обращаясь к реке:
— От камней душа каменееn, от цветов долин — расцветает.
Сафар вспыхивает. Ему понятен намек. Ему, Сафару, указывают его место. Да, трудно в его годы раосчитывать на взаимность молоденькой девушки.
— Приступим, товарищи мастера! — раздается рядом с ними голос.
Сухощавый старик жмет всем руки. Он — главный инженер плотины. Инженера знают и любят все строители. Они зовут его просто «ата» — отец.
Инженер окидывает взглядом понтонный мост, свирепую реку, подтачивающую гребень плотины, и говорит:
— Проверим наш проект на практике... Пошли.
Он улыбается. Он вспоминает о недавних опорах, о борьбе мнений, о том, как он настоял, чтобы приняли предложение Нишанова.
Еще недавно и Нишанов и другие сипайчи работали на стройке каменщиками и переносчиками. Они взламывали гранитный бок скалы.
Нишанов был недоволен своей работой. Он много думал и ждал случая.
Как-то он увидел инженера и окликнул его. Сквозь звенящие удары металла о камень, скрежет пневматических буравов, шипение и треск скатывающегося вниз щебня и гальки пронесся призывный крик.
Нишанов кричал так, как кричат у него в родных кишлаках, разбросанных среди холмов, с одной стороны долины на другую, с крыши дома одного кишлака на крышу другого. Многолетняя практика помогла: зов был услышан.
Инженер быстро взобрался вверх по осыпям, острым выступам скал и поздоровался.
— Что вы хотели?
По приглашению Нишанова они поднялись еще выше, выше громадной надписи, высеченной строителями на скале: «Смерть немецким захватчикам!», постоянно и настойчиво напоминавшей строителям сущность их великого патриотического подвига.
Инженер и Нишанов сели нл скалу. Закурили.
Здесь, наверху, стояла тишина. Желтые суслики буднично бегали, посвистывая, среди камней. В небе кувыркались жаворонки, чуя весну.
Нишанов сконфуженно поглядывал вниз — на реку, на котлован нового русла, серые, могучие, похожие на слонов, устои водосливной плотины. Конфуз Нншанова объяснялся просто: в те дни он еще не приобрел славы и не стал знатным человеком стройки. Он работал хорошо. Но рядом с ним, рука об руку, работали его товарищи, и притом ничем не хуже. Нишанов красноречиво поглядывал на реку и на полоску ряби, пересекавшую ее в том месте, где должна была возникнуть плотина и куда с понтонного моста день и ночь колхозники ссыпали камни, песок, щебенку.
— Медленно идет дело, хотите вы сказать? — спросил инженер.
Нишанов удивленно посмотрел на старика. Именно это и хотел он сказать.
— Река очень зла, уносит камни.
— Так что же? Не успеем к сроку? — проговорил инженер и сам ответил, начертив в воздухе рукой какое-то сложное сооружение: — Сипай... вот что нам нужно.
С минуту Нмшанов смотрел на него, пораженный.
— Да, но кто мне поможет? Где найти опытных мастеров-сипайчей? Неужто посылать искать? Сколько времени уйдет.
В этот момент Нишанову показалось, что инженер настоящий кудесник. С большим трудом заставил он себя говорить:
— Мы поможем.
— Как?
— Мы сами... Наше дело... Сипай ставить — это наше дело.
Тут наступил черед удивляться инженеру. Он был доволен удачной встречей.
— Мы — сипайчи, — заявил Нишанов, — и камни таскать нам не пристало. Дайте нам наше дело. Я найду на стройке много опытных мастеров.
Вопрос тут же решили. Правда, среди инженеров было много споров. Утверждали, что это первобытный способ, что нельзя применять сипаи на передовой стройке. Но слово ата было решающим.
Он заявил, что плотину надо строить с помощью сипаев.
Сипай, или се-поя, — что в переводе на русский язык значит треножник, — применяется на реках и каналах Средней Азии тысячелетиями. Откуда пошел сипай? Кто его изобрел? Когда? Неизвестно. Вернее всего, создан первобытными ирригаторами в те легендарные времена, когда они делали первые, часто бссплодные попытки отбить у могучих полноводных рек, кативших свои мутные воды по сухим степям и пустыням, немного, хоть маленькую струйку воды, чтобы напоить этой водой жаждущую, изнывающую в горячем стремлении плодоносить, тучную землю.
Сипай...
Треножник из бревен, связанных туго в голове и раздвинутых широко распорками внизу. Пустая пирамида, на первый взгляд бесполезная для трудного дела — перегораживания рек и потоков. В самом деле, если такое сооружение опустить в реку и установить на дне, то вода свободно будет по-прежнему мчаться мимо сквозь сипай.
Но именно поэтому треножник твердо удерживается даже в самом стремительном и глубоком потоке.
Можно бросать в воду тысячи носилок земли — ее растворяет и моментально уносит стремнина. Можно бросать тысячу пудов гальки и щебня. Сдержанная на время река накапливает, ворча и свирепея, силы, кидается на хрупкую преграду, разметывает ее и мчится дальше, по-прежнему необузданная. Можно сваливать на дно глыбы камня, и их уносит бешеная река.
Но сипай крепко устанавливается на дне реки. Сам по себе он почти ничего не зтачит. Рядом с ним ставят еще один, дальше еще и еще, причем один треножник цепляется за другой, ломаной линией вытягиваясь в нужном направлении.
Промежутки между деревянными ногами сипаев забиваются снопами камыша, вязанками хвороста. Затем сюда забрасываются тонны камня, песка, грунта. Как ни беснуется река, хитроумное творение человека выдерживает обычно самый бурный напор.
Так некогда человек положил начало строительству тысяч и тысяч плотин на реках и горных потоках Средней Азии. Так началась сознательная ирригация.
Но установить правильно сипаи, выбрать нужную линию, подобрать размеры бревен, подходящий материал для заполнения основания треножников — на все это требуется много умения. Мужественная, сложная профессия сипайчей передается от отца к сыну, от деда к внуку.
Сипайчи — отважный человек, обладающий огромной выносливостью и закалкой. Не всякий может стать сипайчи. Вот почему их немного.
Нишанов — потомственный сипайчи: отец, дед, прадед его всю жизнь устанавливали сипаи, перегораживали бурные реки. Работал он быстро, четко, умело... Работа сипайчи всегда опасна, особенно опасна она зимой, в мороз.
В то утро природа была погружена в неопределенную мрачную муть, которую ферганские крестьяне очень метко называют «черным холодом». И впрямь такая погода черным камнем ложится на душу. Пронизывающая, тяжелая стужа. Все вокруг темное, давящее: почти черная земля, покрытая полузастывшей грязью, липкие скалы, черные, заломленные к небу ветви оголенных деревьев, безрадостные, бурые поля... Снега нет, чуть-чуть на высоких холмах поблескивают белые пятна сквозь серую марь тумана; моросит что-то мокрое и неприятное.
Работать в такую погоду в воде — подвиг. Вода, зелено-черная, дышащая в лицо ледяным дыханием, с сердитым плеском кидается на скелеты сипаев, которые стоят, словно допотопные чудовища, и кажется — вот-вот зашевелятся и задвигают своими громадными ногами.
— Сейчас заставят их ходить, — объявляет Сафар Ученая Голова, — сейчас они у нас зашагают...
Он фамильярно похлопывает рукой по корявой поверхности сосновой ноги одного из чудищ.
— Хорошо, дядюшка, сделан, крепко сделан...
Нишанов осматривал крепления и связи. По пятам почтительно двигались за ним сипайчи, напряженно прислушиваясь к замечаниям бригадира.
День наступил. Но тучи так плотно затянули ватным одеялом небо, чтр сумрак не рассеивался. Стало еще холоднее. Лицо обжигали мельчайшие острые иголочки снежной крупы. По темной, вспененной воде наперегонки мчались пластинки шугового льда.
Ухватившись за канат, привязанный к голове треножника, около сотни колхозников тянули его изо всех сил, подбадривая себя дружными выкриками. Тренога медленно и важно, пронзительно поскрипывая, поднялась и встала, шатаясь и покачиваясь, на самом краю каменной насыпи.
Бригадиры подошли к берегу и измерили глазом расстояние.
— Пойдет, — заметил Нишанов.
— Пойдет.
Наступал самый ответственный момент.
Вода, ворча и бурля, мчалась мимо. Толпа лодей посматривала то на нее, то на бригадиров. Впереди стоял джарчи — Сафар Ученая Голова. Он внимательно наблюдал за каждым движением сипайчи. Ведь ему предстояло потом рассказать о сегодняшнем дне и в каменоломнях, и в землянках, и в станах.
Нишанов ловко взобрался на верх треноги, к поперечным перекладинам. Там мастер сипайных рабог должен находиться до того момента, пока треножник не опустят в воду и он твердо и прочно не встанет на дно.
Подвергается ли сипайчи опасности?
Безусловно, и очень большой. Сипай может перевернуться, сбитый стремниной, сбросить человека в воду, придавить. Нужна недюжинная ловкость, чтобы в случае опасности вовремя спрыгнуть в сторону. Иногда лопается канат, и тогда сипайчи должен поймать брошенный ему с берега «конец» и снова привязать к верхушке треножника.
Не всегда сипай становится так, как нужно, и тогда подтягивая веревками, его заставляют «шагать» по дну реки в нужном направлении. Здесь мастер должен время подать команду, а иногда распутать веревку, спрыгнуть в воду, нырнуть, чтобы высвободить из камней конец бревна...
Опираясь босыми ногами на перекладины, Нишанов крепко держался за веревки.
По его знаку подтянули канаты, и сипай начал плавно точно живой, поворачиваться на одной ноге.
Джарчи, не отрывавший взгляда от колеблющейся высоко в небе фигуры друга, отошел в сторону. Здесь он столкнулся лицом к лицу с Фарахад-ой.
Лицо девушки отражало тревогу. Она рвалась к берегу, к сипаям, но ей было неудобно. Разве можно девушке, хотя и прославленному бригадиру, смотреть на полуобнаженные мужчин?
И она стояла поодаль, вся олицетворение беспокойства и страха, не отводя взгляда от колеблющегося и двигающегося треножника с черной фигуркой наверху.
Внезапно девушка ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Взгляд был так настойчив, что она, наконец, не выдержала, оторвалась от реки и сипаев и нетерпеливо обернулась.
В двух шагах от нее, не сводя с нее глаз, стоял, весь в черном, моряк. Он смогрел на девушку, совершенно ошеломленный. Он шагнул к ней, сказал, запинаясь:
— Вы... Фарахад?
Девушка кивнула головой.
— Вы звеньевая колхоза...
— «Красная Звезда», — подсказала девушка. — Но смотрите вон туда, на сипай! — И она, доверчиво схватив моряка за руку, заставила его повернуться к плотине.
— Смотрите, он падает, — с ужасом воскликнула Фарахад.
Но сипай не падал. Повернувшись на одной ноге, треножник словно поднялся в воздух, задержался на одно мгновенье над краем плотины и грузно «спрыгнул» в реку. Фарахад ахнула и закрыла лицо руками...
— Все в порядке... — прозвучал голос моряка. Девушка отняла руки от глаз. Река по-прежнему мчала мимо свои воды, бурля и вскипая у гребня плотны. Но из самой стремнины поднималась небольшая пирамида — верхушка треножника. Нишанов, держась за канат, опустился в ледяную воду и почти тотчас же выбрался на берег. Все это он проделал очень быстро и ловко, и никак не хотелось верить, что в этот момент сипайчи напрягал свои силы до предела.
Толпа разразилась приветственными криками. Казалось, что и скалы, и вода, и небо, и каждый камень привествуют мужественного...
Было видно, как к Нишанову подбежали люди, завернули его в шубу и под руки быстро повели к землянке. Там его ждало тепло, горячий чай.
Группа сипайчей подошла ко второму треножнику.
III
— Так это были...
— Да, мои письма.
Они поднимались на насыпь, нависшую над бездной, в глубине которой, в тумане, в тучах пыли и necка, в криках строителей, обрывках песен, скрежете пневматических молотов и сверл, создавалось руками людей новое русло реки.
Когда они поднялись на гребень насыпи, девушка вдруг раскинула руки и сказала, слегка задохнувшись:
— Вот!
Моряк взглянул вниз, и величественная картина захватила его. Но лишь на минуту. Он тотчас снова noвернулся к девушке.
Он смотрел на ее лицо, и ему начинало казаться, что она излучает свет. Он видел, что этот свет распространяется вокруг, заливая мрачные скалы, нависшие над рекой, проникает в глубь котлована и стремительно paзгоняет стлавшийся над долиной туман. Только туг моряк понял, что солнце разорвало внезапно тучи и потоком червонного золота пролилось на землю.
Так и запомнилась моряку сияющая фигура Фарахад над обрывом на фоне черных скал...
Встреча была чудесной...
Моряка командировали сюда на несколько дней на подводные работы. Он был водолазом.
Перед войной колхозное звено, которым руководила Фарахад, добилось такого урожая хлопка, что эта еще недавно прятавшаяся за материнские юбки девочка стала знаменитостью республики.
Фарахад послали на сельскохозяйственную выставку в Москву; мало того, ее прославили на весь Советский Союз, опубликовав портрет ее во многих газетах. Так и смотрела она с первой страницы газеты, улыбающаяся, нежная, отнюдь не похожая на мужественную крестьянку, заправляющую делами на нескольких гектарах хлопковых полей...
Портрет появился, а вскоре в кишлак Якатут, в колхоз «Красная Звезда» посыпались письма со всех концов страны. Фарахад поздравляли, ею восторгались, у нее спрашивали совета. Писали на всех языках, писали так много, что ворчливый старик — колхозный письмоносец — ходил к председателю колхоза жаловаться.
— Порядочной девушке столько писать не будут, — говорил он. И очень обиделся, когда председатель невежливо оборвал его.
Среди писем, поздравительных и деловых, нашлось одно особенное. С далекого севера писал матрос первой статьи. Письмо было задушевное, и, прочитав его, Фарахад даже задумалась.
Матрос писал:
«Милая товарищ Фарахад! Посмотрел я на ваш портрет и подумал: жаль, что вы, товарищ звеньевая, в Узбекистане, а я — в Арктике. От меня до вас тысячи верст. Поэтому я вас не обижу, если скажу — чудесная вы девушка. Напишите мне».
К этому наивному письму была приложена фотография.
Звеньевая долго колебалась, но все же написала ответ — скромное письмо школьницы, не совсем даже грамотно, потому что русский язык тогда Фарахад знала еще неважно.
Но моряк истолковал ответ по-своему и снова написал. Фарахад опять ответила. Завязалась переписка.
Вскоре началась война. Моряк попал с гарнизоном в осаду на диком, холодном полуострове. Письма Фарахад возвращались обратно. Она волновалась не на шутку. Мать над ней подтрунивала и даже сердилась: «Грамота тебе на пользу не пошла» и собиралась выдавать ее замуж.
Потом звеньевая уехала на большое строительство. Она никогда больше не говорила о моряке даже с самыми лучшими своими подругами.
И вот случилось невероятное... Он здесь.
IV
Одинокий голос несется над ночной гладью реки. Песня выхватывает из крутых гор звучное эхо и рассыпает трелями по воде...
Певец сидит в темноте над крутым берегом и поет старую, очень старую песню. Говорят в народе, что ее пели сотни лет назад, ее пели еще в дни самого Алпамыша, а может быть и еще раньше.
Поет Иргаш-шаир — старик из седого селения Риштан, приехавший вместе с народом сгроить плотину. Днем старик работает землекопом, вечером он услаждает песнями слух строителей при свете гигантских факелов, ночью поет для себя, отводит душу.
Старинная мелодия несется вдаль... Иргаш с народом строит величественный храм света, но старый певец не легко расстается с прошлым. И ему немного жаль этого прошлого — горячего ветра девственной степи, нетронугой кетменем, диких скал, горького запаха полыни и, самое главное, напряженного безмолвия великой долины.
Песня обрывается... Аккорд домбры еще звенит немного и замирает.
Иргаш не один. Рядом сидит кутающийся в тулуп человек. По мягкому, звучному голосу можно сразу узнать прославленного бригадира сипайчей — Нишанова.
— Что вы пели, Иргаш-ата? — спрашивает он.
— О любви, — медленно отвечает Иргаш-шаир.
— О любви? Есть ли любовь?
— Я пел о любви очень далеких времен, о любви людей, которые превратились в прах.
Струны домбры начинают медленно звучать.. Иргаш-шаир молчит.
— Любовь! — раздается внезапно голос джарчи, такой резкий, что Иргаш и Нишанов вздрагивают. — О чем вы это разговариваете?
И так как ему не отвечают, Сафар Ученая Голова продолжает ворчливо, словно про себя:
— Что говорить о любви! У нас в колхозе «Звезда гор» любовь когда-то пряталась по темным углам, отцы и деды с плеткой в руках не позволяли любви и носа показать из щелей А сейчас? Сейчас, когда мы своими руками у себя в колхозе построили на горном потоке хорошую гидростанцию и зажгли в своих каменных хининах электричество, глаза наших девушек засияли точно звезды, и любовь смеется над ухищрениями дряхлых хранителей старых обычаев... Каждый волен выбирать себе подругу своей жизни... каждая девушка вольна решать, кого избрать мужем... Нет, — вдруг прервал он себя, — нет, друг мой Нишанов. настоящему сипайчи надо поменьше думать о любви.
Переход был столь неожиданным, что Нишанов удивленно спросил:
— Почему?
— А вот послушай... Ты знаешь историю Абдукадыра, прозванного Шах-сипайчи? Нет? Так вот послушай, как было дело.
Был такой царь сипайчей — сильный, как лев, отважный, как богатырь, ловкий, как обезьяна. Всю жизнь обуздывал он бешеную Кара-Дарью — недаром ее народ зовет Черной рекой.
Трудное это было дело, потому что река зло бросалась из стороны в сторону, кусалась, рычала. Едва народ кончит строить плотину, как Кара-Дарья кинется в сторону, в другое русло, и плотина оказывается на сухом месге. Или еще хуже: река обрушивалась на плотину и за какой-нибудь час размывала, разрушала то, над чем две тысячи рук трудились добрый десяток дней и ночей.
Тогда не было еще великого Ферганского канала и многих других каналов, избавляющих дехкан от засухи и безводья. Несколько раз в году на берегах Кара-Дарьи начинали работать, чтобы дать воду полям и садам. И каждый раз приезжал на реку великий мастер — сам Шах-сипайчи. Он и в жару и в суровый мороз строил из цельных стволов деревьев сипаи. Чтобы поднять и повернуть такой сипай, требовалось не меньше сотни людей, а когда таких четыре-пять сипаев бросали на дно реки, в них сваливали целые горы земли, самана, камней и хвороста.
Не было случая, чтобы на работах случалась неудача, когда приезжал Шах-сипайчи поворачивать воду...
Его знала вся Фергана. И его печальную историю тоже знает вся Фергана. Уважаемый Иргаш-шаир, сочините нам песню о Шах-сипайчи. Сейчас я вам расскажу, что произошло дальше.
Певец рассеянно перебирал струны домбры. Под аккомпанемент печальных аккордов Сафар Ученая Голова продолжал:
— В Кара-Дарье вода мчится словно ветер, мчались и годы жизни Шах-сипайчи... Но старость боялась подступиться к нему. В свои шестьдесят лет он был могуч и силен, как юноша. Крепка была стальная его рука, зорок был его глаз.
Но внезапно сердце его охватила любовь... Шах сипайчи полюбил девушку Саодат, которая могла быть его внучкой. Он захотел, чтобы она стала матерью его детей.
Что долго рассказывать? Шах-сипайчи забыл жену, забыл сыновей и внуков и видел только Саодат.
Но девушка смотреть не хотела на старика, и Шах-силайчи ослабел духом. Он забыл, что сипайчи не должен думать во время своей работы ни о чем, кроме сипаев. И впервые Кара-Дарья победила царя сипайчей — вновь отстроенную плотину сорвала река.
Шах-сипайчи велел зарезать корову и лить кровь в воду, но вода не повиновалась. Все новые сипаи опускали в реку, но стремнина ломала их в щепки. Взяли самые большие тополя, связали их самыми крепкими веревками, и на вершину сипая взобрался сам великий мастер.
Когда сипай опустился в воду и канат, который, напрягая все свои силы, держали двенадцать раз по двенадцать дехкан, натянулся, силайчи увидел на высоком берегу женщину в парандже под густой сеткой чачвана. Женщина быстро прошла по тропинке и сделала знак чернобровому юноше. Он бросил канат и подошел к ней. В это время раздался треск рвущегося каната и страшный крик:
— Саодат!
Канат оборвался, сипай наклонился и исчез в пучине; Шах-сипайчи — вместе с ним... Все видели, что он прыгнул в ту сторону, куда падал сипай.
Домбра печально зазвенела.
— И это не все... Народ бросился к девушке, погубившей великого мастера, чтобы наказать ее за развратные разговоры с молодым парнем. Еще минута — и ее побили бы камнями. Но она в ужасе закричала. Под паранджой оказалась старушка — мать того чернобрового.
Рассказчик встал и зевнул.
К чему вы все это рассказали? — спросил Нишанов, но, судя по голосу, намек джарчи попал в цель.
Сафар Ученая Голова не ответил. Он не то вздохнул, не то засмеялся. Встал и певец.
—Чудесное сказание, — проговорил он. — Я сложу песню и спою ее народу, а музыку я уже подобрал.
V
Старики-кишлачники, прибывшие на плотину со своих хирманов и никогда не видевшие гидромониторов, поражались могуществу машин и огромной силе, с которой они рушили в мгновение ока целые скалы.
Низенький инженер объяснял что-то старикам, отрубая ребром кисти руки воображаемые гигантские глыбы... Губы его шевелились, но слова целиком поглощались ревом толстых, кофейного цвета струй, въедавшихся со страшной силой в отвесы обрывов и беспощадно разворачивавших землю. Старикам не нужны были слова. Они понимающе кивали бородами и восторженно переглядывались. Они хорошо понимали, что властно подчиненная инженерами вода избавляет их самих, стариков, и тысячи других дехкан от необходимости днем и ночью тащиться по крутым тропинкам и подъемам с тяжелыми мешками сырой земли на спинах.
Вода стремительно и победно сметала грунт в реку, и старики в уме быстрехонько подсчитывали кубометры за кубометрами, расправляли плечи и облегченно вздыхали, восхваляя могущественную силу воды. Давний, исконный друг дехканства — вода и здесь оказалась добрым помощником в тяжелом труде строителей.
Когда большая глыба обрушивалась и рассыпалась на глазах, зрители ахали, но голоса их полностью заглушались ревом гидромониторов. А полный инженер еще и еще раз раскуривал трубку и, явно позируя, старался выбрать место повыше, чтобы и его видела вся толпа.
Один Нишанов ходил недовольный. Он все больше беспокоился. Румянец на его щеках поблек, что было первым признаком серьезной озабоченности. Фарахад, стоявшая рядом с ним, заметила перемену в лице бригадира и старалась проследить за его взором, но ничего не понимала, хотя беспокойство передалось и ей. Она тронула его за рукав и, поймав взгляд, вопросительно посмотрела ему в глаза. Нишанов покачал головой и, осторожно убрав руку, зашагал в сторону, где стоял инженер. Тот встретил бригадира все той же самодовольной улыбкой, но она сползла с его губ, когда он всмотрелся в помрачневшее лицо Нишанова.
Сипайчи присел на корточки и протянул руку в том направлении, где подножье обрыва омывалось кипящим грязным потоком. Инженер, а вместе с ним и старики, разом, как по команде, присели на корточки, вглядываясь в хаотическую, величественную картину переплетающихся мощных потоков, рушащихся обломков породы, смерчей песка и глины, моментально подхватываемых буйным вихрем...
Инженер был умудрен опытом. Несколько мгновений ему было достаточно. Он понял. Вскочил на ноги и, вытянувшись во весь рост, взмахнул рукой...
Струи, рвавшиеся из жерл гидромониторов, разом оборвались. Наступила тишина. Правда, это была относительная тишина. По-прежнему рычала стремительно мчавшаяся река, обломки берега с шумом рушились в воду...
Сипайчи заговорил, но инженер резко перебил ero:
— Вижу, вижу... Все понятно. Найди человека. Скорее. Надо спуститься вниз...
Инженер чувствовал себя очень неудобно. Он допустил ошибку, грубо промахнулся. Еще несколько минут, и произошло бы непоправимое несчастье. Струи воды разрезали обрыв и пробились вглубь слишком далеко, Громадный массив, подмытый и потерявший устойчивость, своей тяжестью потянул соседние участки. Предательские трещины побежали вверх по склону холма к бетонному берегу большого ирригационного канала, построенного несколько лет тому назад.
Трудно было впопыхах оценить все размеры надвигающейся катастрофы. Старики тоже поняли величину беды и засуетились...
— Скорее! — сдавленным голосом крикнул инженер. Он обвел взглядом лица стоявших около него людей. — Cкорее, надо спуститься в воду и раскопать кетменем вон ту перемычку.
— Я пойду! — резко, перекрывая шум воды и голосов прокричал кто-то. Сквозь толпу пробивался Сафар Ученая Голова. Он на ходу стаскивал с себя ватный халат.
— Девушка, уйди! — крикнул он, увидев Фарахад-ой. Но на пути Сафара встал его друг.
— Правильно, Фарахад отойдет, ей здесь не нужно быть. Но и ты, друг Сафар, отойди. Твое дело быть глашатаем, а мое дело — лезть в воду. А ну-ка, подержи халат! Веревка есть? Хорошо... Повяжи ее вот здесь, подложи платок, чтобы не натерло. Покрепче, потуже... Ну, я готов, дайте кетмень.
Лишь на мгновенье задержался Нишанов на берегу у самой воды. Сырой, промозглый холод охватил оголенное до пояса тело.
Кто-то охнул, когда Нишанов легким движением оттолкнулся от берега и погрузился в густую ледяную жижу. Вода потащила бригадира, сбивая с ног. Десятки рук уцепились за канат, он натянулся струной, но выдержал. Обретя устойчивость, бригадир пробирался к перемычке.
По приказу инженера в укрытии уже разводили костер, откуда-то притащили чугунный кувшинчик. Расторопные парни побежали выполнять какие-то поручения.
А тем временем Нишанов с величайшим трудом передвигался в воде, борясь против силы потока. Когда сипайчи добрался до цели, произошло несчастье. Обрушилась большая подмытая гидромониторами глыба. Из прорала вырвался новый поток воды. Лопнула веревка, и Нишанов завертелся в стремнине.
В толпе закричали. Джарчи бегал по берегу и, покачиваясь всем телом, ломал руки.
— Ой, друг мой! Ой, друг!
Один момент казалось, что Нишанова захлестнуло волной, но он одержал верх над стремниной и выбрался на более мелкое спокойное место.
Еще старики взволнованно охали, а бригадир уже, стоя по пояс в воде, сильными взмахами кетменя начал рушить перемычку.
— Боже мои, — сказал, ни к кому не обращаясь, инженер, — ведь это геройство... Он же знает, что обратно ему не выбраться.
— Как не выбраться? — в один голос спросили Сафар и Фарахад.
Только тут Сафар увидел девушку.
— Уйди, женщина, я тебе говорю... — но тут же осекся. Столько ужаса было в искаженном лице Фарахад!
— Веревка-то порвана, — говорил инженер, — порвана. Стремнина сорвет его и бросит в реку. Он не выплывет. При такой температуре и трех минут на плаву не выдержишь.
Сжав до боли руки, Фарахад замерла. Широко раскрытые, полные слез глаза умоляли о помощи. Старики беспомощно топтались на месте.
А Нишанов работал кетменем, нанося удар за ударом. Стужа все более сковывала его движения, вода грозила сорвать и унести его в реку. Двадцатиметровый обрыв гигантской глыбой нависал над ним, грозя смять, раздавить его, как букашку...
Знал ли в этот момент Нишанов, что путь обратно на берег отрезан, что только чудо может спасти его? Или он верил в великую силу товарищества? Или он думал лишь о том, что надо предотвратить катастрофу?
Минуты шли. Беспомощные, растерянные зрители видели, как тело Нишанова побагровело, а затем начало синеть.
— Неужели ничего нельзя сделать?!.. — выкрикнул Сафар. — Веревку, другую веревку!
— Нет, ее унесет в сторону... Он... он...— Инженер вдруг замотал головой. — Нишанов сам себе роет могилу. Понимаете, через перемычку вода хлынет прямо на него... и захлестнет.
— Нишанов, друг! — закричал Сафар. — Не копай больше! Себя губишь!
На все голоса толпа закричала, загудела.
Но бригадир словно не слышал. Удар за ударом обрушивался на перемычку, становившуюся все тоньше и тоньше.
Когда крики стали особенно громкими, особенно настойчивыми, Нишанов, не прекращая работы, огляделся. Он, наверное, именно теперь понял всю безвыходность своего положения. Понял он и то, что перемычка — последний шанс на спасение. Правда, шанс небольшой, ничтожный, но... Если выбраться на перемычку, может быть, что-нибудь успеют сделать. Но под напором воды обрыв со зловещим углом шевелился, трещины росли. Ежеминутно можно было ждать что громадная масса земли рухнет... Лавину можно предотвратить, лишь дав дорогу воде через перемычку. А тогда верная гибель...
Бригадир поднял кетмень для последнего удара. Все замерли. Громкий крик вырвался из сотен уст.
Он ударил... вода хлынула.
Нишанов обернулся Он смотрел на толпу, на друзей. Взглядом он искал кого-то. Фарахад знала, кого. Она сделала движение, чтобы выбежать вперед, но не успела.
Вода поднялась валом и, разметав мгновенно перемычку, ринулась вниз.
Толпа бросилась к тому месту, где поток падал бешеным каскадом в реку...
— Что случилось?
По гребню завала бежал водолаз. Ленточки его бескозырки лихо трепетали на ветру. На загоревшем до черноты лице сверкали белки глаз и белые зубы. Матросская форма сидела на нем так, будто он был на параде.
— Что случилось?
К моряку бросилась Фарахад. Не в силах вымолвить слово, она протягивала руку туда, где виднелась в мутном потоке человеческая фигура.
— Так... Человек погибает, — громко сказал моряк — Сейчас...
Несколькими прыжками он спустился по глыбам камней к реке. Схватив конец веревки, водолаз ловко обмотал себя ею вокруг пояса.
— Плохая теревка, гниль! — закричал он на инженера — Давай еще!
У подножья обрыва Нишанов все еще держался, хотя вода подошла уже к груди. На лице сипайчи застыло подобие улыбки, равнодушной, безразличной ко всему улыбки. Туман застилал его мозг. Леденящего холода воды он уже не ощущал, где-то копошилось в глубине гаснущего сознания одно слово: «конец».
Откуда-то издалека донеслось:
— Держись, товарищ!
Моряк крепче обвязал себя второй веревкой и кинул-ся вниз, крепкий, ловкий, в тесно облегавшей его тельняшке.
Сначала никто не понял, чего он хочет. Он не пытался двигаться по дну, а смело поплыл поперек течения с силой взмахивая руками. Стремнина потащила его вниз, промчала, на расстоянии какого-нибудь метра мимо головы Нишанова, все еще поднимавшейся над водой.
— Трави канат! — закричал матрос, отчаянно цепляясь за скользкий выступ скалы над самым каскадом.
— Давай, трави канат, черти... в реку тащите. Он вскарабкался на скалу и быстро начал закреплять канат так, что он почти лег на поверхность потока.
Весь мокрый, продрогший, но веселый, он сложил ладони рук рупором и скомандовал:
— Давай, кто помоложе, в воду... А ну-ка, кто там есть живой?
Замысел его все поняли. Несколько колхозников бросились в поток и, ухватившись за протянутые матросом веревки, выстроились поперек стремнины. Держась за канат, можно было, хотя и с трудом, устоять на ногах, несмотря на силу течения.
И вовремя. Голова Нишанова погрузилась в воду. Почти немедленно его задержала цепь колхозников, перегородивших поток. Еще через минуту его вытащили из реки и бегом понесли к предусмотрительно разложенному костру...
К матросу подошел Сафар Ученая Голова.
—Товарищ, — сказал он, — ты спас настоящего человека, моего большого друга. Я хочу знать твое имя, чтобы завтра оповестить всех колхозников о твоем поступке.
— Ну, это потом, замерз совсем. Пойдем греться. — Моряк обнял за плечи Сафара и повел его к костру.
Когда грелись у костра, Сафар с нежной заботливостью предупреждал каждое движение Нишанова. Джарчи виновато заглядывал другу в глаза, непрерывно подливал ему чай, пододвигал куски лепешки.
Несколько раз он пытался заговорить, но почтительно замолкал на полуслове. Нишанов, наконец, заметил странное поведение друга. Слабо улыбнувшись, он спросил:
— Ты что, брат Сафар, пресмыкаешься предо мной, как подхалим в эмирском дворце, а?
— Позвольте вас спросить? — действительно подобострастно заговорил Сафар Ученая Голова странно тоненьким и мягким голоском.
— Да ну, Сафар, что с тобой? Колхозники посмеивались в предвкушении забавной стычки между друзьями.
Сафар Ученая Голова, наконец, решился:
— Когда вы были на фронте?
— А почему вы спрашиваете об этом в такое неподходящее время и в таком неподходящем месте?
Окончательно сконфуженный Сафар, запинаясь, объяснил:
— Когда вы разделись... мы все... мы все увидели... следы ран... заживших ран...
Сафар Ученая Голова говорил почтительнейшим шепотом. Нишанов чуть-чуть улыбнулся из-под усов, но вместо того, чтобы дружеским словом успокоить убитого стыдом друга, он не без ехидства возразил:
— Ну, где нам соперничать с таким пожирателем басмачей, как вы. Конечно, убитых немцев мы не всегда успевали закапывать. Притом мы фашистов так убивали, что из могил они не подымутся...
Сафар был в отчаянии.
— Мое хвастовство мне глаза выело, — сокрушенно бормотал он.
VI
Темная арка моста смелым броском перепрыгивала через расплавленное серебро реки. В свете луны мощное инженерное сооружение казалось сказочным видением, так смелы были его линии, таким воздушным, легким, как паутина, шевелящаяся при малейшем дуновении ветра, казалось оно.
Мост зацепился за скалы берегов ворчливой Сыр-Дарьи, безропотно позволившей впервые за тысячелетия одеть на себя железный пояс. Ночь, величественная и голубая, плыла над долиной, над горами.
Белая каменистая полоса дороги взбегала по насыпи к мосту, а по краям чернели пятна кустарника, за которым прятались неясные тени деревьев в белесом тумане.
Сердце Нишанова сжималось от горя. Столько месяцев лелеял мысль о девушке, столько времени — много много дней он не отделял своих успехов, своих неудач, своих самых сокровенных, радужных надежд от ее имени, от ее сияющих глаз. И вот теперь все надежды его рухнули.
Нишанов идет по мосту, ажурные тени перил падают на доски в лучах лунного свет. Все кругом полно прелести. Он так часто видел ее здесь. Она услышит его, откликнстся...
Нет. Он знает, что нет.
Вихрь подымается где-то за холмами и мчится через реку. Яркое сияние воды тускнеет. Озноб пробегает по телу.
йншанов останавливастся Он знал, что не увидиг ее здесь. Он знал, что она уехала. Знал и все же пришел. Бытъ может, для того, чюбы убедиться раз и навсегда.
— Да, я убедился, — шепчут его губы.
Ветер обрывает его слова и бросает злобно в воду. Нишанову кажется, что ветер разделяет его чувства, и ему становится легче.
— Ты стоишь? — над самым ухом скрипуче прозвучал голос Сафара Ученой Головы.
Сжавшись, вобрав голову в плечи, Нишанов не двигался.
— Ты что же молчишь?
Не добившись ответа, он схватил Нишанова за руку и потянул его за собой.
Только через несколько минут сипайчи с трудом выговорил:
— Ты видишь? Смотри!
В черном мраке стены обманчиво близко двигалась, медленно и призрачно, цепь огней; желтые сияющие лучи рассыпались по темным пустынным холмам. Сквозь ночь на запад уходил поезд.
— Она там, — сказал Нишанов, — она сказала: «Я не хочу оставаться. Такой здоровой, крепкой девушке найдется дело в Красной Армии»...
Сафар молчал... Камешки жалобно скрипели под подошвами сапог.
Первым заговорил снова Нишанов. Он словно отвечал на свои далекие мысли:
Она сказала: «Когда я вернусь — если я вернусь — тогда может быть...»
Сафар Ученая Голова проводил взглядом мигающие далекие огоньки и, покачав головой, чуть слышно пробормотал:
— Отрада сердца...