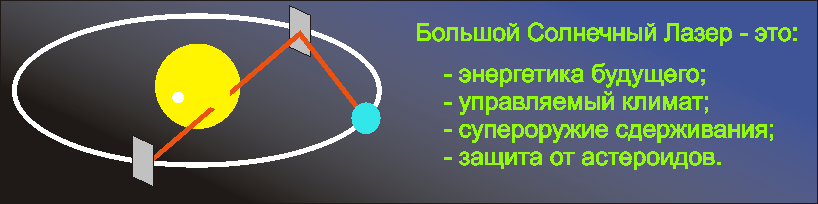
Scanned by: Ruslan Sharipov (April 27, 2008, Ufa).
Роман
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Как могло случиться, что Санджар ушел, предал? Нельзя ли было предотвратить это? А не следовало ли проявить чуточку больше внимания, обойтись с ним мягче, простить самовольные его поступки, вызванные неукротимым нравом...
Случай с Санджаром погряс всех.
Ужин, данный в честь экспедиции байсунским комендантом, прошел скучно. Всех заботил поступок Санджара.
Когда трапеза уже подходила к концу, из тени, падавшей от чинары, выступила тоненькая фигурка девочки в платье до пят и прозвучал детский голосок:
— Кто здесь начальник красных воинов?
Наклонившись вперед и прикрывая глаза от света, чтобы разглядегь, кто его спрашивает, Кошуба промолвил:
— А зачем тебе начальник, девочка?
— Бабушка Зайнаб-биби зовет тебя к себе.
— А кто твоя бабушка и что ей от меня надо?
— Бабушка, она бабушка. Она приехала вчера. Она сказала: «Пусть начальник скорее придет. Есть дело».
Пожав плечами, Кошуба поднялся. Неугомонный Джалалов и Медведь последовали за ним.
На путаных улочках Байсуна, то уходивших куда-то вверх, то сбегавших вниз, темнота лежала густая и непроницаемая. Идти приходилось наобум, по выбоинам, крупным, неровным камням, острым комкам твердой глины, и нешвестно было, куда сейчас ступит нога — в мягкий пыльный ковер или в глубокую яму. Тонкий голосок девочки настойчиво твердил: «Сюда идите!» — и через несколько мгновений с той же монотонной интонацией: «Сюда идите!»
Шли долго. Но вот с треском распахнулась невидимая калитка, заворчала собака, и голосок снова протянул: «Сюда идите!»
Небольшая, очень опрятная михманхана слабо освещалась масляным светильником. Струя воздуха ворвалась в открытую дверь; по темным, шершавым, грубо оштукатуренным стенам и черным балкам потолка заметались тени.
Посреди комнаты на красном паласе и ветхих, но очень чистых одеялах сидела женщина в белом платочке, совсем таком же, какие носят пожилые украинки. Седеющие пряди волос спускались на высокий лоб. Руки старушка прятала под одеяло, накинутое на сандал. На столе стоял поднос с пиалами, лепешками, кишмишом, орехами.
— Заходите, милости прошу, заходите, — сказала старушка неожиданно звонким молодым голосом. — будьте гостями. Простите, что женщина встречает вас, мужчин. Заходите, пожалуйста. Садитесь...
Она с откровенным любопытством рассматривала пришедших. Ее черные проницательные глаза быстро перебегали с одного лица на другое, пока гости рассаживались по-турецки на одеяла, аккуратно разложенные вдоль стен. И вдруг она нахмурилась и очень сердито заметила:
— Гульайин, что тебе нужно, иди!
Легко прислонившись к косяку, в дверях стояла девушка. Лицо Гульайин имело неправильные черты, но поражало необыкновенной яркой красотой. Особенно глаза — большие, ясные.
Девушка не пошевелилась. Старуха заговорила снова:
— Стыдись! Здесь посторонние. Знаешь ли ты. что за один взгляд мужчины на твое открытое лицо тебя раньше потащили бы на площадь, сорвали бы с тебя одежду, закопали бы по пояс в землю... Да, страшное время! И в тебя, в твои ясные глазки озверевшие люди бросали бы комья глины и острые камни. Затем люди разошлись бы, бормоча проклятия, а псы зубами стали бы рвать твое молодое тело...
— Не надо, тетушка Зайнаб!
— Не надо, не надо... Ну хорошо, подойди, звездочка, сядь рядом со мной и посмотри на людей, которые вместе с нашим Санджаром воюют за то, чтобы цепи тиранов не разъедали в кровь наши бедные руки.
Имя Санджара заставило всех насторожиться.
— Скажите, — продолжала старуха, уже обращаясь к гостям, — правда ли, что вы знаете храброго воина, моего сыночка Санджара?
— Да, — сказал Кошуба.
— Глаза мои ослабели, но я вижу, что вы большой и доблестный начальник. Это под вашей рукой идет в бой Сапджар? Скажите, он храбый джигит?
Все молчали. Дрожащими руками старушка палила из чайника кок-чай в пиалу и протянула ее Кошубе. И вдруг она резко и повелительно произнесла:
— Санджар — сын мой, приемный сын. Вот уже три года, как он покинул свой родной очаг и воюет против недругов простого народа. Скажите мне: хорошо он воюет, Санджар? Все я бросила, много дней ехала сюда, чтобы узнать о моем сыночке, взглянуть на него хоть разок.
Пощипывая бородку, Кошуба молча попивал чай.
Он не торопился с ответом. Его предупредил, как всегда стремительный и прямолинейный, Джалалов:
— Матушка, пусть глаза твои прольют слезу. Имя Санджара отныне произносится с отвращением. Санджар протянул руку жадности и захвата.
Старуха непонимающими глазами смотрела на Джалалова, губы ее шевелились. Чуть слышно она произнесла:
— Дитя мое! Дитя мое! А в широко раскрытых глазах Гульайин заметалось недоумение, нарастающий гнев.
Джалалов безжалостно продолжал:
— Говорят, он пошел в басмачи, продался эмирским прихвостням. Говорят, он изменил делу народа.
Льняное масло в светильнике потрескивало, распространяя вокруг чад. Никто не догадался снять нагар.
Слезы безостановочно текли по лицу старухи. Она и не пыталась вытирать их.
— Нет, — вдруг сказала тетушка Зайнаб. — Нет. Санджар не может быть вором. Разве мой сын пойдет против народа, разве, он сойдет с пути своих дедов... — Старушка преобразилась. Слезы сразу высохли на ее глазах, и она заговорила быстро-быстро: — Пусть зубы волка вгрызутся в мое сердце, если я поверю такому навету, пусть летучая мышь вцепится мне в волосы, если я поверю. Пусть змея обовьется вокруг моей шеи... Не верь, Гульайин, Санджар не пойдет вместе с трусливыми шакалами. Нет, нет, он не может, он не смеет пойти к ним, потому что тогда из могил встанут его отец и дед и задушат его...
Она помолчала.
— Русский начальник не знает прошлых дней нашей семьи, прошлых дней семьи пастуха. Я сказала: «Страшнее были это дни». И сейчас я скажу то же. У меня была сестра, не считая другой сестры — матери Санджара. И на беду она была стройна, как тополь, красива, как пери. О красоте ее знали соседи, а раз знают соседи, знает весь базар, а раз знает базар, узнал и сам старый бек. Пришел черный день в наш дом. В ворота постучали и увели к проклятому похотливому псу нашу красавицу, наш тюльпан. Но степные девушки не таковы, чтобы идти добровольно на ложе разврата. — Тетушка Зайнаб передохнула и с новой силой заговорила: — Моя сестра, моя несчастная сестра... Когда ее ввели к этому кабану, он воскликнул: «Красавица! Садись, пей, ешь. Только не вздумай упираться...» Он разорвал на ней одежды. «Таких грудей нет у возлюбленной самого эмира», — говорил старый развратник... И тогда она схватила нож, воткнутый в дыню, лежавшую на дастархане. «На, пес, жри!» — крикнула она и полоснула себя по груди. Сестра моя! Она упала на палас, обливаясь кровью...
И после паузы, длившейся, казалось, много-много минут, тетушка Зайнаб снова заговорила:
— Нет, разве мог родиться в нашей семье предатель, в семье, где женщины предпочитали умереть, искалечить себя, чем покориться подлым насильникам...
— Матушка, — медленно и значительно заговорил Кошуба, — дорогая матушка! Не всякий слух исходит из чистых уст, не всякое слово — правда... Не надо преждевременно предаваться горю и слезам...
До калитки гостей со свечой в руке провожала Гульайин.
Путь до чайханы, где остановились участники экспедиции, Медведь с Джалаловым прошли в полном молчании. Кошуба оставил их где-то па краю кишлака.
У дверей ярко освещенной чайханы внимание Медведя привлек очень толстый человек в странном одеянии. Одежда его была сшита из козьих шкур мехом наружу, и шерсть космами свисала с его груди и спины. Человек поднялся и почтительно поклонился. Сидевшая рядом с ним огромная мохнатая овчарка ощерила тяжелые клыкп и недружелюбно зарычала. Толстяк что-то сказал ей, потом, снова отвесив глубокий поклон. приветствовал Медведя самым вежливым образом, и радостная улыбка скользнула по его наивному, как у молоденькой девушки, лицу.
Толстяк несмело прошел вслед за Медведем в чайхану. В руках он держал высокую глиняную миску.
— Что ты несешь? — спросил Медведь.
— Господин, это «пища пастуха».
— Пища пастуха?
Парень застенчиво улыбнулся:
— В пятницу, когда стадо возвращается с гор. пастух заходит в каждый дехканский дом и ему в миску кладут поиемногу из той пищи, которую готовят у себя во дворе. Вот, смотрите...
— Вид «пища пастуха» имела непривлекательный. Насколько удалось разглядеть, в тот день в Байсуне готовили в основном машевую кашу и бешбармак. Плова попало мало — одна пли две ложки. Сюда же влили, очевидно, густо наперченную шурпу, положили молочную рисовую кашу, кости и мучную болтушку на кислом молоке.
— Медведь поинтересовался: — Неужели ты, пастух не можешь взять две-три миски и класть отдельно плов с пловом, кашу с кашей...
— Зачем? — простодушно удивился пастух. — Ты же кушаешь сначала суп, потом плов, потом кислое молоко. Не все ли равно смешать все сначала в миске или уже потом в животе?
И он рассмеялся громко и добродушно.
— Решительно он мне нравится, — сказал Медведь. — Откуда ты, «пища пастуха»?
Пастух ничуть не обиделся. Он шагнул к Медведю и робко сказал:
— Я Гулям. Помогите мне стать красным воином. Возьмите меня с собой.
Усевшись на краю помоста и поставив рядом с собой свою чашку с «пищей пастуха», он принялся пространно рассказывать о своем кишлаке, о каком-то ишане, о басмаче, которого убили дехкане. Речь свою он уснащал цветистыми оборотами, образными сравнениями.
— Когда волк тащит ягненка, — говорил пастух, — крик едва ли поможет. Я вот смеюсь, а смех ведь только пена скорби. Наш бай и отец селения продал свое сердце и свою душу басмачам; и сельчане, и их жены, и их дети утонули в море печали...
— Нет, подожди, друг, — перебил толстяка Медведь, — так мы ни до чего не договоримся. Расскажи по порядку все, что с тобой случилось.
Тогда пастух Гулям начал издалека:
— У нашего кишлачного бая Саидбая такая вот белая чалма, вот такая. — И он показал целый обхват. — И у нашего имама Ходжи Закира такая же чалма из индийской кисеи. Когда эти две чалмы склоняются друг к другу и бай с имамом начинают шептаться, то всегда надо ждать неприятного. Чалма Ходжи Закира всегда падает. А раз она упала в грязь, и Ходжа Закир гне вался, но он не смел ругать Саидбая. Саидбаю принадлежат и стада, и сады, и поля, и жены. Закир побаивался бая и всегда выказывал ему уважение и почтение. Они всегда ходили друг к другу в гости, и Ходжа думал получить дочку Саидбая себе в жены. Бай соглашался, все знали об этом, только следовало подождать, когда девушка созреет и ей исполнится двенадцать лет. Но вот однажды дехкане увидели на улице нашего кишлака Инкабаг незнакомого человека. Он шел вместе с Сайд-баем в мечеть. Человек был чернобород, со злыми глазами. Тут скоро все узнали, что он эмирский токсаба, зачем-то приехал из-за Аму-Дарьи от ференгов и что Саидбай спрятал его у себя тайком от Советской власти и, мало того, хочет отдать за него свою дочь Гульнор за хороший выкуп в двадцать тысяч тепег, десять гиссарских баранов, парчовый халат, седло и пару рабочих быков. Но какое дело дехканам до того, выдает бай свою дочь замуж или не выдает? Бай устроил бы большой-пребольшой плов и удалось бы хоть разок хорошо поесть. Но дехкане возмутились, и вот из-за чего. Оказывается, гость бая собирал у себя по ночам басмаческих главарей. Об этом рассказал одному землевладельцу Инкабага сам имам, разозленный тем, что лишился лакомого кусочка — молоденькой невесты. Дехкане пошли к байскому дому, вытащили басмача и повели на площадь, а по дороге каждый поднимал камень поострее и потяжелее. Больше всех кричали старики. Они говорили: «0т начала времен жители нашего кишлака плевали в поганые бороды прихвостням бека и эмира и не пускали сюда ни одного». Лет десять назад, правда, какой-то сумасшедший сборщик налогов сунул свой нос к нам в надежде поживиться, но ему так намяли бока, что он бросил и свой халат, и свою лошадь, и свои сапоги и босиком убежал по козьей тропе, что ведет к перевалу «Семи путников, занесенных снегом». Дехкане требовали: «Подайте нам Саидбая, мы ему по волоску выдерем бороду». Но Саидбай показал всем спину. Он сел на лошадь и поскакал в долину, и пока мы казнили басмача, успел передать курбаши Кудрат-бию весть о случившемся.
— Слушай, — сказал Медведь, — зачем же вы чернобородого прикончили? Почему не отвезти его в Байсун?
— Э, от нашего кишлака до Байсуна надо через три перевала ехать, где уж с басмачом возиться... Но некоторые испугались содеянного, а испугавшись, созвали кишлачных стариков и обратились к настоятелю мечети и спросили: «Ты святой, читаешь священную книгу, скажи, кто такие басмачи и одобряет ли пророк их разбойничьи поступки?» Настоятель долго размышлял, но, увидев, наконец, что дело доходит до сердца и печени, сказал: «Басмач — тот же грабитель, отнимающий у человека кусок хлеба, а тот, кто присваивает чужое, становится подобен вероотступнику». Мы очень были довольны тем. что сказал настоятель. Только потом мы поняли, что не мог он быть нам другом, а был врагом. Он высовывал свой язык, как змея, которой наступили на хвост. Разве бай и муллы не одной породы? И разве сыновья настоятеля мечети не ходили в басмачах? Только об этом мы узнали потом.
А судьба кишлака стала черной. На рассвете, когда в темноте стали чуть-чуть видны горы, топот сотен коней разбудил нас, красное пламя, вонючий дым разбудили нас, крики женщин и плач ребятишек разбудили нас. Что случилось — я хорошо не знаю. Я видел только, как басмачи ломали двери, зажигали сено и стреляли в бегущих по улицам обезумевших женщин, спасающих свои души и детей. Около мечети остановился большой басмаческий начальник и показывал шашкой, сидя на коне и приказывая. Я спрятался за оградой и все видел. Вдруг из мечети выбежали дехкане с кетменями и напали на начальника. Конь его упал, а курбаши поднялся и закричал своим басмачам: «Не стреляйте... Порубите их шашками, пусть собаки быстрее растащат их тела, а головы унесите отдельно, чтобы они не нашли покоя в могиле». Тут на дехкан наскочили басмачи, и я слышал только «ух, ух!» Тогда я убежал, чтобы стать воином Красной Армии.
Тут Гулям внезапно замолчал. Oн увидел незаметно вошедшего Кошубу.
Лицо Гуляма озарила благодушная улыбка. Улыбалось в нем все — и карие глаза, и гладкие, порозовевшие сквозь загар щеки, и пухлые, правильного рисунка губы с рыжеватой полоской чуть пробивающихся усов.
Протянув правую руку Кошубе, толстяк, в точном соответствии с правилами вежливости, поддерживал её под локоть левой рукой и отвешивал быстро поясные поклоны.
Кошуба пожал протянутую руку.
— Слушай, друг, ты, наверно, очень много кушаешь, — неожиданно усмехнулся командир. — Посмотри на себя. Ты без малого пудов семь потянешь.
Гулям не усмотрел обидной иронии в словах командира.
— Пища идет впрок здоровому, — присказкой ответил он. Потом добавил: — Начальник, я хочу быть воином.
— А как я посажу тебя на лошадь? Ни одна коняга не выдержит, спина продавится, — командир иронически разглядывал пастуха. — Друг, ты богу молишься? — неожиданно спросил он.
Горец был застигнут врасплох. Он что-то пробормотал относительно веры отцов и милосердия аллаха.
— То-то же. Я давеча тебя, кажется, видел. Ты свою козлиную шкуру разостлал и в сторону Мекки клал земные поклоны. Правда?
Голос Кошубы звучал сухо, резко. Мгновение он всматривался в посерьезневшее лицо толстяка, затем отвернулся. Гулям постоял немного, переминаясь с ноги на ногу.
— Господин, — тихо пробормотал он, — товарищ господин. Я... пешком.
— Пешком?
— Да, лошади мне не надо.
— Хорошо, товарищ Гулям, с сегодняшнего дня Вы — боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Лошадь — здорового толстоногого битюга — Гуляму все-таки выдали. Но в походах он предпочитал ходить «на своих двоих», ведя коня в поводу. Он боялся, как бы действительно тяжестью своего тучного тела не повредить лошади.
— Грузность не мешала Гуляму без видимых признаков усталости проходить в день двадцать-тридцать километров по горным тропам и тяжелым перевалам.
Горец улыбался все так же безмятежно. Молиться богу он скоро бросил...
Настоящее имя Гуляма в отряде предали забвению: все звали его довольно обидно — Магогом, по имени знаменитого своим обжорством великана-людоеда из узбекской сказки.
В силу странной привычки, Гулям не отвечал ни на один вопрос прямо. Стоило его о чем-нибудь спросить, и глаза Гуляма прищуривались, в них появлялась бездна лукавства, и он начинал нести совершенную околесицу, далекую, на первый взгляд, от какого бы то ни было здравого смысла.
Магог был само простодушие и наивность.
Все знали, как бережно хранился в тайне маршрут экспедиции и все, что с ним связано: места остановок, даты, часы выезда. Каждый понимал, что его «душа и тело» зависят целиком и полностью от его собственной осторожности. Неведомая страна простиралась по обе стороны от дороги на много дней пути. На скрипучих арбах тяжелым грузом лежали ящики, а ценность груза была хорошо известна не только тем, кому надлежало о том знать.
В чайхане было довольно шумно, когда туда пришел Магог. Он взял чайник чаю и с интересом следил за партией в шахматы, которой увлеклись Медведь и Джалалов.
Вдруг без всякого видимого повода Магог вполголоса заметил:
— Каменная Дорога царей ночью — плохая дорога.
Шахматисты посмотрели на толстяка. На лице его блуждала хитроватая усмешечка.
— Милочка, — наконец выдавил из себя Медведь, — дорогуша, а при чем тут Дорога царей?
Медведь отлично знал, что по Дороге царей экспедиции предстоит двинуться сегодня ровно в двенадцать ночи в путь из Байсуна дальше на восток.
Толстяк упрямо повторил:
— Дорога царей — плохая дорога. Камни. Все колеса в темноте поломаем.
— Может быть, вам дополнительно известно, когда мы двинемся в путь? — съязвил Медведь.
Несмотря на запутанную форму вопроса, Гулям отлично уловил намек.
— Ровно в полночь, — и прибавил, улыбаясь все так же наивно: — Если арба сломается, если ящики упадут, если ящики сломаются, если деньги рассыплются, в темноте их не соберем.
Тогда Джалалов резко спросил:
— Слушай, Магог, говори, наконец, в чем дело?
С лица Магога моментально исчезла усмешка. Глаза метнулись по сторонам. Он шепотом сказал:
— На базаре... Там плохие люди. Все выглядывают и выспрашивают. У некоторых караванщиков и арбакешей язык длиннее чалмы имама... болтают много. Сейчас я скажу одно дело. Вы только не оборачивайтесь. За вашей спиной в углу арбакеши в кости играют с таким плохим человеком. И все «дыр-дыр, дыр-дыр» болтают.
— Пойдем к командиру, — тихо проговорил Джалалов.
Не спеша они поднялись и вышли из чайханы.
Как бы невзначай Джалалов посмотрел в угол. Широкоплечий здоровяк шептался в углу с арбакешами. Не требовалось большой проницательности, чтобы определить, кто это был. Маскарад был довольно наивный: из-под дехканского халата выглядывал дорогой шелковый камзол, перетянутый военным кожаным ремнем.
Когда этого «бедняка» допросили, он оказался одним из ближайших помощников самого Кудрат-бия.
Гулям-Магог получил первую благодарность по службе.
Еще только май, еще раннее утро, а уже багровый горячий диск солнца накаляет горы и превращает воздух в густой поток расплавленной жидкой массы. Уже струйки липкого пота стекают по спине и пропитывают набухшую от соли и грязи рубаху. Лошадь ступает все тяжелее. Пройдена небольшая часть пути, а уже невыносимо хочется спать, и веки смыкаются, и глаза никак не хотят открыться и взглянуть на величественную картину раскинувшихся вокруг гор и бесконечных холмов.
Потоки лучей затопляют гигантскую котловину, до неправдоподобия круглую и ровную. С севера высится увенчанная снеговой шапкой махина Байсунтау, и видно. как снег блестит на солнце. Он лежит как будто совсем рядом, а почему-то ветер не доносит от него ни признака прохлады. Непонятно, почему не бегут с гор льдисто-холодные ручьи и потоки. Ведь должны же быть и ручьи и потоки; невероятно, чтобы в такую дикую жару снег не таял. И он тает. Но в том-то и состоит мрачная загадка проклятого богом и людьми ущелья, что студеные горные воды Байсунтау в него не попадают.
Правда, по дну ущелья Танги-Муш струятся кристально-прозрачные воды небольшой речки. Они журчат, переливаются по камешкам, манят. Путник с воспаленными губами, с иссохшим языком опускается на колени и погружает в сверкающую влагу лицо...
И тотчас же, отплевываясь, выкрикивая ругательства, вскакивает. Вода горьковато-соленая, противная. От нее еще больше хочется пить.
На протяжении девяти ташей, что составляет около восьмидесяти верст, в ущелье питьевой воды нет.
Дорога пересекает круглое ровное дно долины и широкой белой полосой сбегает вместе с соленой речкой в мрачную щель — горный проход Аджи-дере — Горькую долину, или Горькую теснину.
Вся горечь жизни в этом названии. Горькая вода, горький запах полыни, горький пот, безысходная горечь отчаяния путника, вынужденного спускаться вниз, в пропасть, которую недаром прозвали в те годы Ущельем Смерти.
Сколько воспаленных глаз обращалось с мольбой к бесстрастным небесам, тяжелым синим шатром опирающимся на скалистые стены ущелья, сколько растрескавшихся, иссушенных губ шептали слово «воды!» Но воды не было. Прячась среди скал, банды басмачей преграждали путь к благословенной, изобилующей водой Гиссарской долине.
Много людей погибало в Ущелье Смерти; много могил безмолвными холмиками окаймляют на протяжении десятков верст дорогу. Никто не придет сюда оплакивать молодые жизни и безвестное мужество тех, кто вновь прокладывал на Восток древний путь, по которому некогда шествовали легендарные цари сказочной Согдианы в глубь великой горной страны, к границам Китая и Индии.
Унылый скрип колес внезапно оборвался. Неожиданная тишина переполошила всех.
Из-под арбяных навесов высовывались серые от пыли лица. Воспаленные глаза бегали по голым скалам, напряженно разыскивая фигуры басмачей. Вдоль колонны с топотом и грохотом промчался кавалерист. Вдогонку ему неслись возгласы, вопросы, но он не удостаивал никого ответом.
Кто-то показал на черный провал ущелья:
— Вот она, адова пасть.
Где-то далеко впереди послышался крик: «Тро-о-гай!»
Засвистели, заскрипели арбы. Обоз двинулся вниз.
Печально тащился караван по извилистому, усеянному .могучими валунами ущелью, сжатому отвесными выщербленными стенами. Удивительно пустынно здесь. Ни птицы, ни бабочки, ни стрекозы. Даже кузнечики и саранчуки и те пропали. Ничего, кроме жалкой колючки, соли и камней. Все мертво.
Ветер не проникал в узкую щель. Накаленный восьмидесятиградусной жарой воздух отчетливо видимыми струйками поднимался вверх, и казалось, что скалы, глыбы известняка, каменные стены трепещут и шевелятся.
Внезапно на гребнях скал, с обеих сторон нависших над ущельем, появились крошечные фигурки всадников.
— Ну, кажется, «они», — с равнодушием обреченности заметил кто-то.
Джалалов потащил через голову винтовку. Глухо прозвучал испуганный женский крик.
— Придется, что ли, в укрытие идти, — неуверенно сказал Медведь, — а то здесь как кроликов всех перехлопают... Спрятаться, до ночи просидеть, а там по холодку выберемся.
Но он сам не торопился слезать с лошади, а только погрозил кулаком в сторону скал и смачно выругался.
Обоз продолжал двигаться, всадники ехали все так же на большом расстоянии по бокам, то забираясь на вершины холмов, то ныряя в расщелины и исчезая из виду.
— Хоть стрелять бы начали... А то какая-то игра в кошки-мышки.
Апатия и уныние царили в обозе. Казалось, появись сейчас среди арб и верблюдов с гиком и воинственными воплями вооруженные до зубов бандиты — и все безвольно подставят под ножи свои шеи.
— Сто-о-о-й? — глухо пронеслась команда.
Караван с шумом остановился на берегу соленой речки. Лошади жадно тянулись к воде и, сделав единственный глоток, отступали, беспомощно помахивая головой. Глаза их, умные и печальные, наливались кровью, горло делало судорожные движения...
Люди бродили вдоль берега речки. Кое-кто прилег на песок под арбами, пытаясь найти прохладу в маленьком клочке тени среди нестерпимого, режущего глаза сияния. Дремота, полная кошмаров, наваливалась на мозг. Хотелось пить.
И как-то без всякого энтузиазма, без малейшей радости люди восприняли чьи-то слова, произнесенные равнодушно, монотонно:
— То не басмачи, то наши, красноармейцы.
Послышался топот. Проскакал боец, мелькнуло под белым платком коричневое воспаленное лицо.
Караван заволновался, зашевелился. Арбакеши бросились запрягать.
Через десять минут обоз снялся с печального бивуака.
Еще час пути... Еще час безмерных страданий людей и животных. Но оказалось, что подлинные мучения еще впереди.
Начался подъем.
Вдоль обоза проехал Кошуба. Не останавливаясь, он предупреждал вполголоса:
— Подтянитесь... Проверьте вннтовки.
Караван подъезжал к месту, завоевавшему печальную славу, — к Минг-мазару, что значит — Тысяча могил.
С холма расстилался вид на широкую, бескрайнюю степь, кое-где покрытую зелеными пятнами камыша и белыми плешинами солончаковых болот... Точь-в-точь как и тогда, ня Байсунском перевале, гигантский столб желтой пыли медленно плыл над рааниной.
Кошуба долго смотрел в бинокль и о чем-то советовался с Гулямом и Курбаном. Затем он махнул рукой, и два всадника поскакали на юг.
— Живее, живее, — командовал Кошуба. — Передать обозу, чтобы пошевеливались. — И, подъехав к Медведю, как бы невеначай заметил: — Если это они, то они нас почти прозевали. Кони их тоже выбились из сил. И смогут они лишь нажимать с хвоста. Так что поживее...
И, как нарочно, в эту минуту остановилась арба. Резко свернув в сторону, лошадь своротила громоздкую повозку в рытвину. Арбакеш, молодой, франтовато одетый парень, соскочил на землю и, нагло улыбаясь, подошел к Кошубе.
— Дальше не поедем... — Тон его был развязный. Он лихо заломив свою лисью шапку и уперся обеими руками в бока. Новенький полосатый бекасамовый халат топорщился под ярко расшитым поясным платком. Желтые сапоги поскрипывали.
Командир молча рассматривал арбакеша. Тот, не дожидаясь вопроса, продолжал:
— Чека выскочила, колесо сейчас упадет.
Он лениво играл плеткой с дорогой серебряной рукояткой и самодовольно поглядывал на длинную вереницу остановившиеся арб, путь которым преграждала его арба.
— Надо чинить... Починку будем делать.
Дорога шла по глубокой узкой выемке, выбитой в течение тысячелетий караванами и арбами в рыхлой лессовой толще. В узком коридоре обоз оказался как в ловушке.
Джалалов подскочил к арбакешу и срывающимся голосом закричал:
— Сейчас же, сейчас же трогай!
Арбакеш все так же нагло улыбался. Только глаза его, черные и пронзительные, заметались по сторонам и камча запрыгала в руке.
По обрыву, из выемки, где сгрудился обоз, поднимались возбужденные, горячо жестикулирующие арбакеши.
Тогда Кошуба процедил сквозь зубы:
— Джалалов, успокойся.
Он слез со своего коня и, ведя его под уздцы, подошел вплотную к арбакешу. Выражение лица молодого парня под взглядом Кошубы начало меняться, бледность разлилась под коричневым загаром, глаза потеряли наглый блеск.
Около десятка арбакешей столпились вокруг них. Все словно на подбор чернобородые, атлетически сложенные молодцы, славившиеся на всем Душанбинском тракте своей лихостью, удалью и неразборчивостью в вопросах морали.
Еще свежа была в памяти бухарцев легенда о таком возчике, по имени Саиб, с большой Душанбинской дороги. Саиб повез богатого купца из Самарканда в Карши, а вернувшись, вскоре превратился в Саиб-бая, богатого землевладельца в долине Зеравшана. Поговаривали, что купец вез много золотых монет и что и купец, и монеты исчезли без следа, словно их проглотили пески Кызыл-Кумов. Но кто мог заподозрить в чем-нибудь могущественного Саиб-бая — гостеприимного, хлебосольного и очень щедрого на подачки уездному начальнику и участковому приставу? Это тот самый Саиб-бай, волшебник, за одни сутки насадивший в пустынном урочище роскошный фруктовый сад только потому, что жена приезжего военного, жившего вблизи лагерного городка, выразила вслух сожаление, что приходится жить среди голой степи.
Недавний арбакеш Саиб-бай имел холеное, обрамленное ассирийской бородой лицо, белую, индийской кисеи чалму, три законных жены, не считая многочисленных наложниц, сотни батраков и тысячи баранов. И вое же он был когда-то полунищим арбакешем, беспутным сыном большой дороги...
Арбакеши сумрачно смотрели на Кошубу. Они явно собирались затеять ссору, но Кошуба меньше всего намеревался вступать в переговоры. Он держался спокойно, будто перед ним стояли не полтора десятка отчаянных, вооруженных длинными ножами головорезов, а несколько непослушных, расшалившихся мальчишек.
— Ну, Сиддык! — сказал он.
Молодой арбакеш встрепенулся. В глазах мелькнуло изумление: откуда командир знает его имя?
Рука Кошубы опустилась на плечо Сиддыка.
— Вот что, друг. Ты сейчас выведешь арбу на дорогу. Сейчас.
— Но чека...
— Заткнешь дырку чем хочешь, хоть пальцем. Марш!
Сиддык спустился к арбе. Он шел как побитый. Несколько арбакешей кинулись к нему, по-видимому, желая помочь. Но Кошуба резко крикнул:
— Не сметь! Пусть сам.
Подхлестывая лошадь, Сиддык ухватился за колесо и с криком, напрягая все силы, вытолкнул арбу на дорогу.
Он вытер потный лоб полой халата, лихо вскочил в седло и гортанными выкриками погнал лошадь вверх по подъему.
Командир смотрел ему вслед.
— Хороший получился бы солдат... А вы знаете, кто он, вернее, кто его отец? Аманбай, локайский помещик. Самый настоящий курбаши. Родного сыночка послал отбывать обозную повинность. Кто знает, не хотел ли байский щенок нарочно задержать обоз? Видите, и колесо, и чека на месте.
II
Арбы скрипят особенно пронзительно. Скрип колес сверлит мозг и, отдаваясь эхом в накаленных стенах ущелья, кажется похожим на вопли чудовищных птиц. Птицы летят по пышущему зноем белому небу и купаются в солнечных лучах, расплескивая брызги пламени прямо в лицо. А голову все туже сжимает железный горячий обруч, перед глазами ходят черные столбы, и только в промежутках между ними можно с трудом разглядеть белые меловые утесы, белое соленое ложе речки, белые выцветы соли на дороге.
Сон это или бред?
Лошадь низко свесила голову и еле перебирает ногами. Выпустив из рук поводья, Николай Николаевич покачивается в забытьи. Каждый шаг мологом отбивает удар в висках.
Пить хочется. Тридцать два часа люди и лошади не пили. Самое страшное, что не удалось напоить лошадей, еще несколько таких часов, и кони начнут падать.
Солнце будто нарочно медленно ползет по небу. Никогда, кажется, раскаленный этот шар не слезет с неба, не уберется за горы, не потонет в снегах таких близких и таких недосягаемых горных вершин. Какими безумцами были люди, поклонявшиеся солнцу! Нужно не поклоняться ему, а проклинать его...
Опять дремота и бред... И как давят стены ущелья! Отовсюду: от стен, от земли, от неба — пышет жаром тысячи печей.
Сколько сейчас градусов?
Где самое жаркое место на земле? Говорят, где-то в Калифорнии. Пустяки! Наверняка здесь.
Лошади, обессиленные, едва плетутся. Люди неподвижно лежат на арбах. Николай Николаевич похож на привидение. Руки висят как плети, рот раскрыт, жадно ловит сухой, горячий воздух.
Ущелье делает резкий поворот и упирается в высокий желтый холм — пирамиду, покрытую небольшими буграми. От пирамиды в лицо бьет горячая струя. Нечем дышать. Темнеет в глазах. Судя по стуку молотов в висках, лошадь продолжает шагать.
— Вы хотели видеть Ущелье Смерти, — слышит Николай Николаевич знакомый голос, — смотрите. Вот это место. Вот Тысяча могил.
Рядом едет Кошуба. Удивительно, как может он сохранять бодрый вид в такой зной.
Дорога разворачиваегся и белой, пышущей жаром и дымящейся едкой соленой пылью лентой уходит в сторону. Медленно ползет по ней обоз. Вес с трепетом смотрят на страшный холм. Все молчат.
— Вот из-за этого места, — говорит Кошуба, — и называется долина Ущельем Смерти. Они здесь и поджидают всегда. Знают, что и люди, и кони окончательно сдали, знают, что воля и силы подавлены усталостью, жаждой, солнцем, и... налетают.
Слова Кошубы, в другое время вызвавшие бы тревогу, почти никого не волнуют. Кто-то жалобно спрашивает:
— А вода скоро?
Не отвечая на вопрос. Кошуба продолжает:
— Многие сложили здесь головы, очень многие. Поедем, доктор, посмотрим. Всем своим бодрым, подтянутым видом комбриг подчеркивает, что трудности пути по Ущелью Смерти не так уже велики и что нечего распускаться и падать духом. Бодрость Коиуубы вызывает в Николае Николаевиче недоуменную зависть.
Кони идут узкой тропинкой по склону пирамиды. В стоне колес, в облаках пыли обоз поворачивает влево. Становится тише. Стрекочут кузнечики и цикады. Крепко пахнет полынью.
Здесь, наверху, чуть легче дышать. Мягкий, почти прохладный ветерок обдувает воспаленные лица. По бокам дорожки, среди кустов колючки, блеклой травы и ярких желтых цветов, — холмики комковатой глины. Некоторые из них придавлены тяжелыми камнями, кое-где воткнуты колышки.
— Могилы, — говорит Кошуба. Он снимает фуражку.
Всадники поднимаются вверх.
— Могилы. В каждой лежит воин. И не простой воин — боец Красной Армии. Заслуженный боец. Многие из них все фронты прошли. И под Питером воевали, и на Кубани, и под Варшавой, и на Перекопе. И вот попали сюда, в Ущелье Смерти...
У самой вершины пирамиды лошади начинают испуганно храпеть и пятиться. Прямо из-под земли вырастает старик.
— Садам алейкум.
— Здравствуй, Ходжи-бобо, — отвечает приветливо Кошуба.
Он отводит старика в сторону и долго его расспрашивает о чем-то. Доносятся слова Ходжи-бобо:
— Нет, они прошли по нижней дороге. Их мало. Наверно, только соглядатаи. Нет, не опасно, кони их измотаны. Нет, бояться нечего... Что? Санджар? Он не устает смотреть.
Внешний облик Ходжи-бобо вполне подходит ко всей этой дикой местности. Старик совсем высох, кожа туго обтянула его кости. Жизнь горит только в больших карих глазах. На худом мускулистом теле белые, очень скромные одежды, в руках посох, на голове чалма.
Ходжи-бобо — страж могил кладбища ущелья Танги-Муш, более известного под именем Ущелья Смерти. Ходжи-бобо — хранитель вечного покоя тех, кто сложил головы на древней Дороге царей.
Старик живет в маленькой, чистенько выметенной пещере. В ней прохладно и уютно, хотя все убранство состоит из блестящих камышовых циновок, небольшого. обитого цветной медью сундука, глиняных кувшинов и чашек и белого неизменного чайника, разрисованного цветочками.
Он даже угощает гостей. Угощает тем, что здесь является наибольшей драгоценностью, — водой.
Вода хранится в глиняном кувшине. А известно, что в таких кувшинах даже в самую сильную жару вода остается очень холодной и вкусной.
Откуда здесь вода?
Старик качает головой. Нет, здесь не имеется, к сожалению, поблизости никакого источника. Приходится ездить на ишаке за водой несколько раз в неделю на юг в урочище Кондыхан. Там есть ключи, вытекающие из-под корней чинары, именуемой за свои гигантские размеры Деревом пророка Соломона. Вода в ключе сладкая и вкусная. Жаль, это очень далеко.
Пиала воды сразу приводит все мысли в порядок.
Старик рассказывает о себе. Он не находит нужным скромничать. Ходжи-бобо хочет, чтобы его считали при жизни святым, а после смерти построили бы ему мавзолей. Пусть поставят туг — шест с ячьим хвостом. Пусть ветры Восхода и Заката качают туг, и пусть молитвы о бедной душе отшельника возносятся к престолу аллаха.
Он считает, что вполне этого заслужит, если жизнь зеленых долин не сманит его отсюда. Кто знает, хватит ли у человека терпения коротать век в пещере в соседстве с мертвыми.
Ходжи-бобо — хранитель могил. Никто его сюда не назначал, никто не просил брать на себя тяжелое бремя. Жил он, носивший раньше имя Мавлян, в кишлаке Инкабаг, близ Байсуна, в тенистом саду на берегу веселой горной речки. Жил хорошо, в хорошей семье.
Он даже не особенно стар еще и полон энергии и сил. Он не очень любит ишанов и имамов. В его голосе проскальзывают пренебрежительные нотки, когда разговор заходт о служителях аллаха.
— Нет, я не дервиш, не каляндар, — говорит Ходжи-бобо. Разве можно уподобиться этим кликушам с запахом падали под мышками и со стадами вшей в длинных патлах? Они считают, что чем больше грязи на их теле, тем выше мера их святости. Нет, я просто человек.
Конечно, не без причины Ходжи-бобо бросил родной кишлак и поселился на вершине кладбищенского холма. И вовсе не так он предан богу, чтобы по призванию стать аскетом и заживо святым.
Жил Ходжи-бобо в домике, увитом виноградом. Была у него прелестная шестнадцатилетняя дочь Рано. Бек байсунский прислал за ней своих нукеров, а сын Ходжи-бобо защищал честь сестры, и его убили. Остальные сыновья ушли к «горным братьям», а Ходжи-бобо спустился в ущелье и стал хранителем могил людей, погибших за правое дело...
— Пошли, — вдруг перебил свой рассказ Ходжи-бобо.
Он ведет гостей по тропинке и останавливается перед уже давно насыпанным холмиком. Земля слежалась от дождей в большой ком глины и спеклась в кирпич под жгучим горным солнцем. Ходжи-бобо берет в руки небольшой бурый камень. На черном, так называемом степном загаре его выцарапаны арабские письмена.
«Во имя бога милостивого и милосердного покоится здесь Искандер, сын Мавляна, сына Адила, убитый руками «злых». Год. число.
— Искандера убили бекские собаки за то, что хотел он вырвать из зубов дракона свою сестренку Рано. А вот здесь читайте: «Шарип, сын Мавляна, сына Адила, Джахид, воин за правое дело». Другой мой сын. Пал в бою против бекских нукеров. А вот в этой могиле третий мой сын, мой первенец. В прошлом году он лежал, умирая от ран, полученных в бою с басмачами. Ангел смерти Азраил посетил мою пещеру. Как просил я взять мою жизнь, никому уже не нужную, и оставить дыхание моему первенцу Шарипу. Нет, видно, бог не видит слез людей...
Старик отворачивается и долго не может произнести ни слова.
Рядом еще холмик, на камне трогательно выцарапан крест, и с трудом можно прочитать арабские буквы, совершенно не приспособленные к столь трудным именам. Но и здесь сначала идет мусульманская формула. «Бисмилля рахман и рахим...» А дальше: «Фидур Сидуруф» воин». Еще дальше»: «Михаил Квитко, воин, боец за правду».
Около каждой могилы — похоронен ли в ней мусульманин, или православный, или безбожник — старик одинаково благоговейно совершает фатиху и, произнеся «о-о-мин!», проводит руками по бороде.
— Они — бойцы за правду. Что мне до того, что они различной веры. Они умерли с моими сыновьями в одном ряду, их могилы рядом, они все мои сыновья. О боже!..
Он садится на большое надгробие и задумчиво чертит посохом арабские буквы на песке. Кошуба и доктор молча смотрят на далекие снеговые горы с белыми шапками, на белую выжженную холмистую местность, на столбы пыли, удаляющиеся к северо-востоку.
Шелестят сухие былинки. Промчалась большая зеленоватая фаланга. Ветер взметнул за ней крошечное облачко тонкого песка. Фыркнув, покосились задремавшие было кони...
Ходжи-бобо поднял голову и глазами показал на другую сторону лощины. Там тоже виднелись холмики, там тоже находились могилы.
— Там, — медленно проговорил старик, — в прошлый четверг я закопал Данияра.
— Данияра-курбаши? — удивился Кошуба. — Он погиб?
— Да. Его убили по приказу Кудрат-бия за то, что он не хотел больше воевать против народа. Застрелили, как паршивую собаку... Там, на той стороне, хоронят басмачей. Там много могил презренных, протянувших руку жадности, и с каждым днем их становится больше. Каждый вечер прихожу я сюда и считаю их. И когда число увеличивается, я, приникнув устами к могилам, рассказываю моим сыновьям эту радость. Я говорю им? «Дети мои, поднимите свои головы, откройте глаза, посмотрите на ту сторону, там еще закопали двух собак, там...»
Он замолк в удивлении: прямо из лощины по тропинке верхом поднимался Ниязбек. Лицо его посерело, глаза лихорадочно горели. Он с трудом слез с копя и хрипло проговорил:
— Вы здесь, товарищи... А я ехал и снизу вижу — кто это там наверху? Здравствуй, старик!
Ходжи-бобо прищурился, сделал из ладони козырек oт солнца и, внимательно разглядывая из-под мохнатых бровей Ниязбека, медлил с ответом, точно старался что-то припомнить. Наконец он сказал:
— Здравствуйте.
— Что ты тут делаешь, старик?
— Божье дело, божье дело...
— Ты что, могильщик?
— Все от бога, все от бога. — Затем он встал и, подойдя ближе, проговорил прямо в лицо Ниязбску:— А я вас знаю. Вы тенгихарамский землевладелец Ниязбек.
— Откуда ты меня знаешь, старик? — В голосе Ниязбека прозвучали тревожные нотки.
— Мы, старики, все знаем, все помним. Не то что вы, молодежь. Припомните. Три года назад, в год лисицы, во дворце бека байсунского одного старика привратники поколотили... Смешно. Все знатные и великие за свои толстые животы держались... Старик за дочь просил. А его палками, палками... Помните?
Лицо Ниязбека помрачнело.
— Полно болтать, старик. Откуда помнить мне всякие пустяки? — Он искоса взглянул на Кошубу. — Вот что, дай напиться, божий человек.
— Откуда у нас вода?
— Уж не хочешь ли ты сказать, старик, что ты, как ящерица, живешь без воды? Пойдемте, друзья. Сейчас напьемся.
Он быстро зашагал к черневшему входу в пещеру, Оставив лошадь снаружи, он вошел внутрь и тотчас же появился с кувшином и большой чашкой.
— А, чтоб тебе помереть в огне,— голос Ниязбека стал страшен. — Так-то у тебя нет воды? А ну-ка возьми кувшин. Наливай.
Поставив на землю чашку, Ходжи-бобо начал лить в нее студеную влагу.
И хотя доктор только что напился, при виде воды ему снова очень захотелось почувствовать ее холодок в воспаленном горле.
В этот момент произошло что-то необъяснимое: кувшин выпал из рук старика, перевернул чашку и покатился вниз по склону, расплескивая воду, которая с легкие шипением впитывалась в горячую землю тропинки.
Толкаясь, судорожно поводя боками и жалобно фыркая, лошади кинулись лизать мокрую землю.
Нияз бросился с поднятой камчой на Ходжи-бобо. Кошуба резко остановил его:
— Не сметь!
— Он басмач! Он нарочно...
Старик не шевельнулся. Он смотрел на Ниязбека невозмутимо и в то же время презрительно. Лицо его, сухое и темное, походило на деревянную маску. Ничего не сказав, он повернулся и, наклонившись, нырнул в свою пещеру, Через минуту оттуда послышались слегка гнусавые, нараспев произносимые слова молитвы.
Ниязбек разразился руганью. Кошуба стоял посреди тропинки и раскуривал свою неизменную трубку.
Когда всадники уже нагоняли шумный пропыленный обоз, командир, как бы отвечая на свои сокровенные мысли, проговорил:
— Очень полезный святой. А? Как вы думаете, доктор?
Не зная, в чем дело, Николай Николаевич поспешил согласиться, что Ходжи-бобо очень достойный и симпатичный человек.
— Жаль только, что он такой неловкий.
— Неловкий, вы думаете? — загадочно проговорил Кошуба.— Он очень ловок, этот Ходжи-бобо. И умен притом.
— Да, что это он говорил про Санджара?
— Правда? М-да, что-то говорил. Не припомню... Всю дорогу до самого Миршаде Кошуба не проронил больше ни слова.
III
Кошуба был прежде всего солдат Красной Армии. Война для него уже давно стала буднями. Он даже не представлял себе, что может скоро наступить такой деym, когда ему, Кошубе, не придется больше воевать с врагами Советов, когда представится возможность оставить военное дело. А тут перед ним, на кошме, в обыкновенной войлочной юрте сидели совершенно реальные вестники прекращения войны. Они громко прихлебывали кок-чай, сопели, утирали рукавами обильно струившийся по лбу, носу, щекам пот.
Перед Кошубой сидели парламентеры. Гроза горных долин, эмирский главнокомандующий, самый злобный, оголтелый курбаши Кудрат-бий прислал своих представителей с торжественным заявлением о том, что он складывает оружие и сдается на милость Советов...
— Да, черт возьми! — Командир вскочил и, потирая руки, сделал несколько шагов по юрте. — Н-да!
Он остановился перед басмаческими представителями и, все так же потирая руки, спросил:
— Итак, почтеннейший мутавалли, вы опять здесь?
Гияс-ходжа, хранитель вакуфа из Янги-Кента, следовал тенью за экспедицией. Сегодня он появился в качестве уполномоченного курбаши Кудрат-бия. Мутавалли имел очень мирный облик в своем белоснежном, никогда не пачкающемся, несмотря на трудности дальних дорог, халате, такой же чалме и коричневых мягких ичигах с зелеными пятками. Мирное обличие Гияса находилось в полном противоречии с устрашающим видом воинственных, увешанных оружием парламентеров, с которыми он только что приехал в лагерь экспедиции.
— Бог велик, товарищ, пришлось увидеться, — певуче протянул мутавалли.
— А знаете, что вы сейчас, как говорят на Востоке, вступили на порог смерти? — бросил комбриг.
— Бог велик!
— За все ваши дела я мог бы не очень-то с вами церемониться...
— Бог велик! — все так же спокойно проговорил мутавалли.
Спокойствие и выдержка, казалось, совсем оставили Кошубу, и Джалалов, не решаясь говорить вслух, незаметно сунул ему в руку записку. В записке Джалалов писал: «Простите, что вмешиваюсь не в свое дело. Вы все испортите. Помните, что на Востоке нельзя откровенно высказывать свои чувства».
Кошуба раздраженно пожал плечами.
— У вас есть, — продолжал он, обращаясь к басмачам, — какое-нибудь письмо? Прямо скажу — я не доверяю вам. Дело серьезное. Так ведь? Мне бы бумагу с печатью. Все как полагается.
— Светоч проницательности господин командир прав, — сказал, развязывая поясной платок, мутавалли, — очень прав, тысячу раз прав... Вот тут все написано.
И он протянул свернутое трубочкой послание. Оно было написано тем цветистым восточным стилем, в котором за витиеватыми оборотами нелегко иной раз добраться до сути и установить, что же, наконец, предлагает писавший.
Кошуба долго читал письмо. Посланцы курбаши сидели с безразличным, даже скучающим видом и, казалось, сосредоточенно изучали прихотливый узор ковра.
— Хорошо, очень хорошо, — заговорил, наконец, Кошуба. Ну а вы, Гияс-ходжа, сами-то верите Кудрат-бию? Вы верите, что он решил оставить разбой, резню, Кровь, а? Что побудило его?
На лице мутавалли появилось благочестивое выражение. Он даже приложил руку к сердцу и весь как-то подался вперед:
— Судьба предопределяет пути людей, и никто не может идти против судьбы.
— Неужто судьба заставляла Кудрат-бия сжигать кишлаки, истреблять сотни дехкан, убивать женщин?
— Все от бога. — Хранитель вакуфа благочестиво склонил голову.
— И та же судьба заставила вас приехать к нам, прямо на рожон?
— О, духовный наставник положил свою руку мне на глаза в знак повиновения. Я лишь скромный, ничтожный мюрид, послушный ученик.
Не было ни малейшего сомнения, что мутавалли не скажет больше ничего толкового. Приехавшие с ним басмачи не раскрывали рта. Гияс-ходжа пил чай, ел лепешки, удобно расположившись на подушках и одеялах, и по безмятежному виду его всякий подумал бы, что он чувствует себя как дома. Разговаривал он мирно, добродушно, стоически перенося грубый тон командира. Правда, один раз он вышел из состояния душевного равновесия и пробормотал:
— Ваши слова действуют мне на голову, подобно анаше. Вы только покупаете, а ничего не продаете, только спрашиваете, а не говорите.
Снова и снова разговор возвращался к Кудрат-бию и его неожиданному решению сложить оружие. Чувствовалось, что Кошуба хочет заставить хитроумного Гияс-ходжу не то что бы проговориться — на это трудно было рассчитывать, — но хотя бы одним-двумя словами дополнить официальное письмо, дать в руки какую-нибудь нить.
Беседа давно уже походила на допрос, и даже загородившийся стеной казуистических рассуждений, мутавалли начал проявлять признаки тревоги. Он вздыхал, закатывал глаза, вытирал большим красным плагком пот со лба, но на все вопросы неизменно отвечал заверениями в дружбе и преданности. Так вот дипломаты какой-нибудь захолустной восточной страны, вроде Кашмира или Гильгита, по многу суток ведут бесконечные переговоры по пустяковому поводу, стараясь взять друг друга измором.
Спустились сумерки, в комнате сделалось темно, а разговор не прекращался. Кошуба распорядился принести свет. Вошел широкоплечий красноармеец с жестяной керосиновой лампой. Он поставил ее на низенький овальный столик, вытянулся и спросил:
— Начальник, можно сказать? Кошуба только теперь обратил внимание, что перед ним новый боец его отряда Гулям-Магог.
— Говорите.
— Товарищ начальник гарнизона просит к себе вас и ваших гостей кушать.
— Хорошо. Проводите. Передайте, что я приду попозже. Мутавалли и его спутники поднялись. Уже подойдя к двери юрты, Гияс-ходжа вернулся и, озираясь, тихо проговорил:
— Их милость токсаба Кудрат-бий поручил мне передать еще, что он готов помочь красным воинам захватить отряд известного вам Санджара-батыра. Пусть это послужит, господин, доказательством чистоты душевных намерений их милости.
В красноватом неверном свете лампы лицо Гияс-ходжи вытянулось, заострилось. Глаза его воровато бегали в темных впадинах, а под тонкими усиками струилась елейная улыбочка. Теперь уже Гияс-ходжа пытливо изучал лицо Кошубы, старался прочитать его сокровенные мысли. Ответ последовал молниеносный, как удар бича,
— Да, мы согласны.
— Хорошо, — с видимым облегчением протянул мутавалли, — мой господин будет очень доволен, мой господин будет хорошо служить Советской власги...
Кланяясь и бормоча заверения в своей преданности и в преданности Кудрат-бия, мутавалли, пятясь, вышел из юрты.
— Точка, — сказал Кошуба, — о-ч-чень хорошо. Приступим к изучению документа. это письмо Кудрат-бия мало чем отличалось от других его посланий. Видимо, сочинял их один и тот же писец по издавна установившимся, закостенелым шаблонам:
«Во имя пророка и бога, предопределяющего пути, пожелания здоровья и процветания моему достославному беку и военачальнику, имеющему львиное сердце, Кошубе и его сыновьям и семейству!
Пишет командующий войсками ислама, не склонявший еще ни перед кем головы, парваначи Кудрат-бий. Да будет сделано так, на то воля пророка, дабы избавить мусульман от разорения и огня войны и пролития крови и дабы вернуть в долины благородной Бухары мир и процветание, хочу я и мои доблестные помощники-курбаши и мои правоверные воины стать верными слугами советского государства, ибо мы слышали, что Советская власть не посягает и не преследует правоверной религии ислама и не подвергает гонениям последователей Мухаммеда и, желая проявления милосердия, добросердечия к женщинам и детям в цветущих садах, мы порешили прийти к вам и сказать: примите наши души и да будут забыты взаимные обиды и стенания сердец.
Если Советская власть проникнет в глубочайший смысл нашего желания и изъявит желание позаботиться о великой пользе народа, скажите нашему посланцу «да» и изложите это в письме. Тогда мы прибудем ровно через десять дней, считая от сегодняшнего дня, в город Денау со своими курбаши и джигитами на конях и с оружием и будем вас приветствовать в мире и согласии на том, чтобы жизни наши были долгие и занятия наши были свободны и избавлены от оков и сомнений, А прибудет нас 258 человек с 260 конями (хорошие кони), 134 винтовками, 36 револьверами, 7000 патронами. И со всем тем оружием мы отныне будем защищать Советы. Да воссияет свет мира над нашей страной, потрясенной несчастной и бедственной войной, причиненной столкновениями Красной Армии с войсками ислама. Да будет так.»
Помолчав, Кошуба сказал:
— Хорош документик, а?— и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Только не все ясно. Почему так мало винтовок, а? Здесь червоточина, и явная. Дельце серьезное и сугубо тонкое. Пошлите ко мне Саодат. Вы, Джалалов, скачите немедленно в Денау. Я дам трех бойцов. Ничего, ничего, ночью басмачи не воюют.
— Да я и не боюсь...
— Знаю, знаю. Вот вам инструкция. Я тут набросал кое-что. Пусть из Юрчи прибудет оркестр. Начальнику гарнизона я позвоню. Отправляйтесь. До свидания... Да, товарищ Медведь, приготовьте все для съемки. Историческое зрелище.
Кошуба был очень оживлен, нервничал. Он бегал по юрте, потирал руки и все повторял:
— Точка.
А когда ему задавали вопросы, он просто на них не отвечал.
Саодат пришла прямо с торжественного ужина, устроенного начальником миршадинского гарнизона в честь приезда парламентеров. Она побледнела от возмущения и незамедлительно обрушилась с упреками на Кошубу.
— Я не понимаю, — резко говорила Саодат, — нет, нет, не перебивайте меня... Как вы, командир Красной Армии, можете гарантировать жизнь и неприкосновенность чудовищу, которое все узбекские и таджикские дехкане прозвали «адамхуром» — людоедом и «конхуром» — пьющим кровь. Кто не знает, что он проделывал в мирных кишлаках, признавших власть Советов и помогающих Красной Армии? Разве вам не рассказывал Гулям-Магог, что этот детоубийца вытворял в Инкабаге? Он там устроил той. Все горцы называют этот той «пиршеством ужаса». Там Кудрат-бий с курбашами пировал, жарил баранину и плов в тени деревьев, а палачи сенорубкой рубили старикам головы. А сенорубка была тупая, и каждому убиваемому наносили пять-шесть ударов по шее, прежде чем человек в неслыханных мучениях умирал. Там...
— Постойте, Саодат...
— Нет, вы, наверно, товарищ Кошуба, не знаете. Там рядом с котлами, где варили плов, поставили такой же огромный котел, — взяли его из мечети, — наполнили маслом и в масле сварили самого почтенного, самого уважаемого дехканина Сахат Пулата за то, что он работал на заводе в Ташкенте и, став там коммунистом, принес имя Ленина в Инкабаг. Я скажу самое страшное, товарищ Кошуба: Зульфие-ой и Камбарбу, женам батраков, за то, что мужья их палками и камнями отбивались от ворвавшихся в их хижины бандитов, разрезали животы, вырвали оттуда живых детей и набили живогы конским навозом...
Саодат несколько раз начинала плакать, но слезы моментально высыхали на ресницах, и она, страшно боясь, что ей не дадут закончить, говорила, вкладывая в свои слова силу убеждения человека, который на себе испытал весь ужас басмаческой жестокости.
Опустив голову и мрачно постукивая пальцами по посланию Кудрат-бия, Кошуба молчал. Он заговорил лишь тогда, когда Саодат смолкла и, всхлипывая, спрятала свое горящее лицо в ладонях.
— Все? Вы все сказали, Саодат? — В голосе голосе Кошубы послышалась несвойственная ему нежность. — И все же разрешите доложить, решение принято. Советская власть гарантирует сдающимся добровольно Кудрат-бию и участникам его шайки жизнь и свободу... если они сами не нарушат условий сдачи.
Он так многозначительно протянул последние слова, что Саодат с удивлением подняла голову:
— Очевидно, Кудрат решил сдаться, а раз так, он, конечно, постарается соблюдать условия.
— Сколько случаев... — вмешался Медведь. — Они сдаются, потом снова разбойничают, снова, когда туго приходится, сдаются.
— Тсс... это к делу не относится... точка. Я вас позвал вот зачем. Вам партийное поручение. Как только мы прибудем в Денау, город, где собирается сдаваться Кудрат, вы немедленно вместе с местными женработниками примете меры, самые твердые и решительные меры, чтобы ни одна женщина не устроила демонстрации своих, кстати вполне справедливых, чувств, чувств ненависти к басмачам. Я уже позвонил в ревком. Они там вам помогут. Чтоб было до поры до времени тихо и спокойно. Понятно?
— Понятно.
Саодат кивнула головой. Ее красивое лицо было noлно растерянности.
— Я сочень прошу вас, Саодат, помогите нам и сделайте все как надо. Никаких проявлений чувств. Если кто-нибудь попытаегся организовать демонстрацию... ну, из местных жителей, ни в коем случае не допускайте. Ну, идите, кончайте ваш ужин.
Джалалов лежал, укрывшись теплыми одеялами, около своей юрты. Бархатно-черное небо с мерцающими огоньками звезд низко нависло над лагерем. Легкий ветерок ласкал обожженное лицо. В юрте Кошубы горел свет.
Хрипло, надрывисто лаяла где-то собака. Рядом тяжело сопело большое животное — не то верблюд, не то рабочий вол. Лагерь погрузился в сон. Недалеко, в глиняной мазанке, плакал ребенок, а мать убаюкивала его тихой простой песенкой. Песенка отгоняла беспокойные мысли, успокаивала.
Тревожный голос разбудил Джалалова. Было холодно, веяло сыростью. В изголовье стояла темная человеческая фигура.
— Кто, кто?
— Я.
Голос принадлежал Медведю.
— Понимаете, Джалалов, — зашептал он, — Санджар в лагере.
— Что? — вскочил Джалалов.
— Тише. Честное слово, здесь. Я проявлял вон в той юрте пластинки. Задержался Иду, спотыкаюсь на кочках, проклятые здесь кочки, вдруг шасть! — из-за юрты комбрига, из-за поворота всадники. Думаю — свои, бойцы. Ан нет, вроде как молодцы из доброотряда, четверо их было, а впереди ехал, честное слово, сам Санджар.
— А потом вы проснулись...
— Ну, ну, глаза у меня есть, — Медведь обиделся. Однако он тут же забыл про обиду и возбужденно продолжал: — Едет такой гордый, вооруженный. Шапка меховая лихо надвинута на самые глаза. Я сбегал к Кошубе, так он говорит: «Померещилось. Идите, товарищ Медведь, спать».
— Вот правильно, — сонно пробормотал Джалалов, — давайте спать. — И, уже совсем засыпая, проговорил: — Жалко, хороший парень. Но к нам он не рискнет приехать.
Медведь буркнул что-то неразборчивое.
Голос доносился из-за низкого дувала, и слова показались настолько необычными, что Медведь насгорожился. Он не очень хорошо говорил по-узбекски, но понимал все, что говорили. Речь шла о возвышенном.
— ...бесценное, поистине бесценное наследие,— говорил кто-то слегка нараспев. — Все останки нетленные, хранящиеся в великом Истанбуле, в самом пышном храме Гирнан-Сидэ, — зубы пророка, самого пророка Мухаммеда, увы, говорят, они совсем прожелтели. да еще в придачу часы, которые он потерял в битве, улепетывая что есть духу от острых мечей неверных собак, проявивших полнейшее неуважение к воинской доблести посланца аллаха. Там есть также священная и благословенная исподняя одежда Мухаммеда, а также коран, который он написал чудесным способом, ибо он был неграмотен и не мог отличить «а» от «б». Понятия не имею, как он мог писать. Есть в том хранилище святых копья и стрелы, а также обрезки ногтей и волосы, принадлежавшие первым четырем правоверным халифам. Только тот является халифом, кто владеет упомянутыми великолепными сокровищами религии. И недаром всю жизнь эти халифы только и делали, что ссорились, дрались и проливали кровь своих приверженцев из-за тех драгоценных реликвий. Под рукой халифа должны к тому же находиться Мекка с Каабой и Иерусалим. Вот почему правоверные без конца воевали друг с другом, потому что не осталось возможности мирным способом поделить мозговую косточку между грызущимися друг с другом халифами. Только суннитский закон...
Создавалось впечатление, что за забором читалась духовная проповедь. Не ожидая, когда говоривший закончит, Медведь встал на цыпочки и заглянул поверх забора. Старый этнограф рассчитывал увидеть ишана или бродячего дервиша. Каково же было удивление Медведя, когда он обнаружил разведчика Курбана, ораторствовавшего перед небольшой аудиторией. Там сидели Николай Николаевич, Саодат и еще несколько человек.
— Что за проповедь? — мрачно проговорил Медведь. Сконфуженно Курбан опустил глаза.
— Мой дядя, пусть просторна будет его могила, был большой домулла, — скромно ответил юноша. — Он хотел меня сделать имамом, но он всегда говорил мне: «Курбан, капля неправды подобна яду, отравляющему море истины. А ты видел имама, который не обманывал бы народ?» Я подумал-подумал и решил уклониться с тропы, ведущей к мечети.
После обеда Курбана вызвали к командиру, а ночью он исчез.
Экспедиция задержалась в Миршаде на несколько дней. Все предавались заслуженному отдыху.
Свежие ночные ветры, благоухающие ароматами весенних степных трав, уже начинавших выгорать на солнечных склонах пологих холмов, бирюза неба, ледяные шапки дальних гор, величественные вечерние зори, синие хребты, разбегавшиеся во все стороны — все дышало мирным покоем.
Не хотелось двигаться, трястись по пыльной дороге, чувствовать на плечах и на лице жесткие, прямые лучи солнца. Не хотелось вспоминать о войне, о басмачах.
Да к тому же все знали, что Кудрат-бий решил повиниться, а все басмачество как-то невольно отождествлялось с Кудратом, и думалось, что раз он прекратил свои набеги и бесчинства, то и борьба с басмачеством закончена. Значит, путь на Душанбе открыт, значит, начинается мирное будничное путешествие.
Настоящим событием, кстати подтверждающим все эти шаткие предположения, было неожиданное прибытие в Миршад без всякой охраны группы бухарских купчиков.
«Ну, раз торгаши появились, — говорили все, — раз они по дорогам начали разъезжать без страха, тут верное дело».
Важные и упитанные, полные коммерческой солидности, купцы передвигались верхом. На лошадях и ишаках горой возвышались тюки — мануфактура, галантерея, бакалея, а сверху восседали почтенные ветхозаветные патриархи, молчаливые и сосредоточенные.
Они робко отвечали на расспросы, но с молниеносной быстротой обделывали свои торговые, иногда довольно сложные, делишки.
Когда экспедиция несколько дней спустя выступила в дальнейший путь, купцы присоединились к каравану.
IV
Безрадостный, унылый вид имела в те дни Гиссарская долина.
Тяжелые серые дувалы тянулись бесконечно, отгораживая бесплодные пустыри и запущенные безлюдные сады. Лишь изредка, да и то в стороне от нового Душанбинского тракта, можно было нечаянно встретить запуганного дехканина в худом, испачканном желтой глиной халатишке, босого, с черным, туго обтянутым пергаментной кожей лицом. При виде вооруженного человека земледелец бросал кетмень, низко кланялся и терял дар речи. Кругом, на многие километры, тянулись заросли верблюжьей колючки и непролазного камыша, над которым то там, то здесь высились темными громадами шапки одиноких чинар. Путаные тропинки местами совершенно исчезали в тугайных зарослях, местами терялись в болотах. Оросительные каналы за последние годы пришли в негодность: плотины разрушились, и вода горных бурных речек текла самовольно, так, как тысячелетня назад, до появления в долине человека. Случалось порой блуждать по дорогам и тропам целыми днями и не натолкнуться на жилье, потому что крестьянин, бежав из родного кишлака, строил сейчас свой конусообразный шалаш из камыша и глины в самой глубине зарослей и притом еще тщательно заботился, чтобы в траве не протаптывалась слишком приметная тропинка. Домашним строго-настрого наказывалось гонять скотину каждый День в новом направлении. Днем костер не разжигался, а ночью огонь прикрывали щитами из камышовых циновок. Жарить мясо, в особенности с луком, тоже не решались, так как пряный запах разносился ветром далеко и мог послужить приманкой для недобрых людей, а развелось их немало. Тут шлялись и басмачи, объединенные в шайки, носившие даже некоторые черты военной организации, и разные мелкие воровские банды кзыл-аяков, кара-аяков, и просто группы подозрительных личностей, и цыганские бродячие таборы. Лишь цыгане, никого не боявшиеся и наводившие своим колдовством священный ужас не только на мирных земледельцев, но и на самых диких и необузданных курбашей, осмеливались в поисках пищи бродить в одиночку вдоль берегов Сурхана и Туполанга.
С пищей стало плохо. Шли самые тяжелые, самые голодные месяцы, апрель — май, когда скудные запасы зерна, риса в дехканской семье кончаются, а овощи ещо не созрели.
Гиссарская беднота и раньше, при беках, ежегодно весной вымирала тысячами, и никому до нее не было дела. А в эту весну вообще творилось что-то невероятное. Басмачи, разъяренные тем, что народ отшатнулся от них, пошли огнем и мечом на мирные кишлаки и селения и разоряли и без того уже разоренное эмирскими налогами и поборами дехканство.
Оборванные, похожие на живые скелеты, люди брели неизвестно куда по размытым горными потоками дорогам и запущенным тропинкам.
Откуда-то из ущелий Бабатага спустились в долину стаи шакалов, одичавших собак. Пришедшие с юга, из долины Аму-Дарьи, гиены обнаглели настолько, что нападали на улицах кишлаков на детей и подростков. Человеческие кости белели в траве, на берегах высохших арыков, в развалинах домов.
Обильный прекрасный край пришел в запустение.
...Одинокий всадник не торопясь ехал туманным утром по проселочной дороге, спускавшейся к Сурхану. Лицо путника казалось мрачным и озабоченным. Временами, когда взгляд его падал на торчавший сломанным зубом остаток стены дома, он вполголоса разражался никому не адресованными проклятиями. Человек кутался в белый суконный халат и тяжело вздыхал. Мохнатая киргизская лошаденка сонно брела, низко опустив голову и изредка прихватывая на ходу пучки густо разросшейся по обочине дорогм травы.
Всадник часто приподнимался на стременах, пытаясь что-нибудь разглядеть в зарослях камыша и колючего кустарника, но каждый раз вновь грузно опускался в седло и бормотал: «Двенадцать небесных сфер едешь здесь... Но разве что-нибудь найдешь?»
Внезапно конь заржал, и из-за поворота дороги прозвучало эхом ответное ржание. Путник встрепенулся, заерзал в седле и перестал разговаривать сам с собой.
— Слушай, ты, человек! — прозвучал хрипловатый простуженный бас. — Запрети своей кляче подавать голос.
Всадник тревожно оглянулся по сторонам, но не увидел ни души. Стена прошлогоднего порыжевшего камыша сжала дорогу, превратив ее в узкую тропинку, метелки свисали над головой, били по лицу, задевали морду лошади.
— Ваала, — нарочито громко протянул путник, — велик пророк. Кто говорит? — и так как ответа не последовало, путник нараспев продолжал: — О пророк, дай мне немного здоровья для сохранения моего тела или святого дыхания для спасения души. О пророк...
— Да ты настоящий имам, — снова раздался хриплый голос. — Ты сделаешь честь самому тупому из всех тупых чалмоносцев Бухары. А ну-ка слезай...
Камыш раздвинулся, и перед глазами путника выросла фигура пожилого коренастого человека, увешанного оружием.
— Слезай, да поскорее... Ну, а теперь скажи, чего тебе понадобилось в нашем доме?
Прижимая руки к груди и низко кланяясь, путник забормотал:
— Ваша милость... велик бог... сохраните жизнь, господин высокоблагородный, ваше превосходительство курбаши...
Бородач грубо прервал его:
— Умри, слизняк! Куда пробираешься, алтарный скорпион? Ну, говори!
— Я еду пред светлое око великого воина Санджара.
— Эге, а откуда ты, шакалья душа, прознал, что он здесь? А?
И, не дожидаясь ответа, он задрал вверх, к небу, свою рыжую с проседью бороду и закричал, призывая какoro-то Саттара.
Через несколько минут путника с аккуратно связанными за спиной руками вели в глубь камышовых зарослей. По дороге словоохотливый бородач, словно извиняясь перед пленником за причиненное беспокойство, развлекал его разговорами:
— Вот обгорелые стволы. Нет, правее, еще правее .. Так там прирезали пару сотен людей... Осталось немного пепла и углей, а ведь тут находился большой кишлак, и в нем возвышались мечети, где ваше имамство, — а вы, наверное, имам, я сразу догадался, я не ошибаюсь в таких делах .. Так вот здесь вы могли бы восславить имя пророка и, забравшись на мимбар, поучать нас, темных людей... Жили люди ни бедно, ни богато, только вот веру отцов, что ли, отбросили в сторону да очень любезно и гостеприимно принимали советских людей. Тогда воины ислама предали селение Чорчинар разграблению, чтобы неповадно было впредь... Только для кого пример? Всех, и малых и больших, прикончили, не оставили никого, кто бы мог прийти на кладбище и зажечь свечку на могиле. Вон, видишь, там подальше, зеленый купол — там место молитвы. Вот бы там ваши «ляху илля-ляху» покрикивать с минарета. Там и минарет есть, кажется, еще целый. А то все ишаны святые куда-то подевались с тех пор, как Чорчинар стал местом смерти, и некому стало носить святому угоднику дары да подношения.
После паузы, которая длилась ровно столько, сколько нужно на то, чтобы отправить под язык здоровенную порцию наса, бородач продолжал:
— Ну-ну, ведь вы, имамы, да мюриды, да все прочие ходящие пред лицом аллаха, нуждаетесь, как и мы, простой народ, в хорошей большой чашке плова, а? Правильно? Конечно, правильно. Вот о плове. До чего народ стал теперь злой, души до самой глубины потемнели. Вот тут рядом... вон за тем холмом, нет, левее, живет один дехканин. Абдулла, что ли, его зовут. У него для курбаши Кудрат-бия дочь четырнадцати лет взяли... ну спать с ним. Нет, не женой. Жен у него хватит. Ну, девушке не понравилось или не перенесла она Кудраг-бия — умерла. Н-да, красивая девушка была. Ну, Кудрат приезжает к ее отцу: «Давай сядем, побеседуем», — говорит. Дехканин ведет курбаши в михманхану, а какая там у него комнага для гостей — стены, потолки черные, на полу рваные одеяла, в комнате жгут костер. Кудрат недоволен. «Я тебе зять, наконец, — говорит, — угости пловом». Нехорошо, когда гость сам у хозяина требует угощения. Однако дехканин говорит «хоп» и давай хлопотать. Побегал, вернулся к гостю. «У нас благодаря вам — воинам ислама — и рис кончился, и моркови нет, и масла не видим», — говорит. Кудрат-бий как вскочит: «Молчи, тварь, чтобы сейчас же плов...» Ну, Кудрат сидит со своими лизоблюдами, ужин ждет. Ну вот, скрывается дверь, и мальчики несут блюдо с пловом. Кудрат засучил рукава халата, положил полную щепоть в рот да как заорет. Все испугались — и к нему. А он толкает рукой блюдо, кричит: «Хлопковая шелуха, шелуха...» Вот так дехканин! Из чигита плов устроил.
Путник шел, низко опустив голову, и отозвался не сразу:
— Ну и что же? Кудрат, а?
— Приказал дом сжечь, разрушить, чтобы следа не было.
— А Абдулла?
— Дехканин Абдулла, или как его, ушел да еще, говорят, похвалялся: «Жирный кабан преступил обычай гостеприимства. Требовал — дай то, дай это, сделай плов. Ну пусть пожрет. А не хочет, придет время, я ему силой напихаю в горло не чигит — гальки напихаю...». Такой злой оказался... А как тебя зовут и куда идешь?
— Я Курбан, иду к Санджар-беку. Слышал — великий он воин и храбрец.
В просторной комнате для гостей случайно уцелевшего большого байского дома, стоявшего над самым обрывом Сурхана, сидели кружком, склонясь над географической картой, Санджар, или, как теперь его звали, Санджар-бек, со своими ближайшими помощниками. По правую руку, сладко зевая и перебирая большие бирюзовые четки, полулежал личный эмиссар Кудрат-бия Зуфар Ахун. Курбаши прислал его сюда для связи, когда поползли всюду слушки, что Санджар-бек переметнулся от красных на сторону басмачей. Никто, глядя на чистое с нежным девичьим румянцем юное лицо Зуфара, не подумал бы, что это самый беспощадный помощник кровавого курбаши. Гнусные зверства Зуфара отталкивали от него даже наиболее закоренелых кудратовских бандитов. Зуфар совсем недавно перестал быть возлюбленным Кудрат-бия, так как вышел из возраста бачи, но он остался его наперсником и выполнял в банде самые ответственные поручения. Сейчас он не отходил ни на шаг от Санджара и от имени Кудрат-бия давал ему советы:
— Господин дотхо Кудрат-бий, да будет прославлено его имя, изволят вам заметить, что пора приступить к делу. У ваших джигитов отличное оружие, отличные кони. Вот вы, Санджар-бек, пропустили удобный случай в ущелье Танги-Муш. Целый день вы шли рядом с большевистским караваном и даже не попытались напасть на него.
...Господин дотхо соизволил указать, что из кишлака Суек-поен два молодых джигита — пусть огонь спалиn их отцов в могиле — ушли добровольцами в Красную Армию. Прикажите схватить подлых безбожников, породивших ублюдков, и доставить к дотхо на суд и расправу.
...Господин дотхо соблаговолил сообщить, что на окраине Юрчи в махалле Сагбон поселилась проститутка, именующая себя учительницей из Самарканда. Она ходит по улицам без чачвана и паранджи, оголяя бесстыдно свое поганое лицо. Пошлите своих воинов, пусть выпотрошат эту тварь.
Зуфара злило, что Санджар-бек держался независимо и не обращал внимания на распоряжения Кудрат-бия.
Отряд Санджар-бека засел к югу от Юрчи и Денау в непроходимых камышах. В лагере царила жесткая дисциплина: ежедневно устраивались боевые учения, тревоги, за что эмиссар Кудрат-бия очень хвалил Санджар-бека.
У дверей михманханы к Курбану подскочили два кряжистых чалмоносца, всем своим обличием не похожие на санджаровских людей.
— Эй, эй, попался большевой!
Они грубо втолкнули Курбана в комнату. Неожиданным сильным пинком его сбили с ног. Приподняв окровавленное лицо, разведчик встретился взглядом о мерцающими неистовой злобой глазами Зуфара.
— А... — захрипел кудратовский эмиссар, и щека его задергалась. — Получил, только мало!..
Схватив камчу, он кинулся к Курбану.
Санджар решительно отвел руку Зуфара:
— Подождите, спросим. Этот человек, кажется, желает уйти от большевиков и стать воином ислама...
Но Зуфар неистовствовал:
— Подержать голым денек-другой на солнцепеке... Содрагь кожу с живого! Кто один день болтался с большевиками, хотя бы только один день, тот пропитан заразой, тот забыл отцов и ислам. Придушите его. Он кяфир, он собака!..
— Однако, — насмешливо заметил Санджар, — вы очень испугались какого-то беглого красноармейца. Эй, Карим, брось его в яму, пусть покормит там клопов...
В глазах Курбана ходили красные круги, он ничего не видел и не соображал. Его поволокли куда-то, облили голову водой и столкнули в яму.
Чего только не передумал Курбан, сидя в яме! В бессильной ярости он стискивал до боли зубы, бормоча и клянясь отомстить. Гордого горца Курбана за всю жизнь никто ни разу не ударил.
Вечером в темницу принесли хороший ужин, кувшин с водой и подстилку для спанья. Позже к краю ямы подходил Зуфар. Он истерически выкрикивал ругательства, грозясь пристрелить пленника.
Вскоре он ушел... Наступила тишина. Курбан устроился поудобнее и, грустно пересчитывая вспыхивавшие одна за другой в темнеющем небе звезды, задремал.
Очнулся он от нервной дрожи, пронизавшей все тело. В яме было темно, холодно. Но Курбан чувствовал, что рядом с ним находится живое существо. Он весь напрягся.
— Кто? Кто?
Ему показалось, что в яму спустился Зуфар, что пришел его смертный час.
— Тише,— прошелестел чуть слышно голос,— не кричите... Держите крепкой рукой ваше сердце джигита и воина. Есть разговор, слушайте.
Медленно приходил в себя Курбан. Руки его все еще дрожали. Боль от недавних ударов давала себя знать.
— Вы пришли к нам, Курбан, друг мой, — сказал властный голос. — Вы недовольны Кошубой, вы чтите законы ислама и пророка его Мухаммеда, вы как правоверный мусульманин не хотите служить большевикам.
— Повинуюсь...
— Сейчас вас переведут отсюда к моим джигитам, и вы отныне воин Санджар-бека. Поняли?
— Да, я понимаю... Так сказано начальником.
— Тсс! Когда завтра будете перед нашими глазами, прочитайте самую длинную молитву, какую вы знаете. Мне говорили, что вы великий знаток корана. Читайте Зуфару две молитвы, четыре молитвы... двадцать молитв. И он возблагодарит аллаха, что тот направил стопы ваши в ряды воинов ислама. Сейчас Вас возьмут отсюда. — Едва слышно, быстро все тот же голос добавил: — Что же касается Зуфара, то недолго ему хорохориться.
Санджар поднялся по лесенке и ушел.
Наутро Курбан преобразился в басмача. Ему вернули коня, выдали трехлинейную винтовку, шашку, патроны. Боевая учеба, наряды, разведка отнимали все время. И если бы не два чалмоносца, оказавшиеся телохранителями Зуфара, которые следили как соглядатаи за всем, что делалось и говорилось в отряде, Курбан едва удержался бы в разговорах от сравнений с жизнью в Красной Армии. Но приходилось молчать. Молчал и Зуфар, однако он являлся по вечерам во двор, где жил Курбан, и заставлял его читать бесконечные молитвы. Зуфар внимательно слушал и так же молча уходил. Лишь раз он ни с того ни с сего вспылил:
— Как читаешь, пес? Как читаешь? Ты верующий или ты окончательно предался большевикам? Нет, ты не ишан, ты большевик...
И он замахнулся камчой, но прочитал в лице Курбана такое, что отшатнулся и опустил бессильно руку.
Мирная жизнь санджарбековского отряда вскоре оборвалась... Откуда-то во весь опор прискакал гонец, и почти тотчас же разнеслась весть, что Кудрат-бий сдается Красной Армии, что войне конец, что Санджар-бек приглашается к Кудрату на совет. Ночью во двор прибежал человек и прокричал:
— Курбана к начальнику!
Курбан взял оружие и пошел к воротам. На улице ветер сбивал с ног, мелкие камешки били о лицо, но в комнате, куда пришел Курбан, горел костер и было уютно. Санджар, не приглашая Курбана сесть, взглянул мельком на сидевшего тут же Зуфара и сказал:
— Мы едем в гости к их высокостепенству парваначи Кудрат-бию. Седлайте, возьмите все нужное.
Курбан низко поклонился и поспешил к себе во двор.
Дальше все происходило словно во сне. Ночь залила тьмою дороги. Под напором дикой бури метались ветви деревьев, камышовые стены шатались и ложились на тропинки. Полил проливной дождь. Санджар ехал впереди в струях ливня, в ослепительных вспышках молний. За ним рысил помощник Кудрат-бия Зуфар на великолепием текинском скакуне. Третьим был Курбан. Лошади испуганно сторонились каждого куста, черневшего на обочинах разбитой, местами затопленной дороги.
Впереди послышался грозный монотонный гул. Чем дальше пробивались всадники сквозь бурю, тем он становился все громче.
— Правее! — закричал Санджар. — Тут есть брод. При вспышке молнии впереди из тьмы выступила широкая, грозно движущаяся серая полоса. Когда молнии заливали местность холодным синим светом, полоса покрывалась блестками. Вздувшаяся от ливня Тупаланг-Дарья, что значит Безумная река, вырвавшись из горной теснины, властно катила свои воды по долине к реке Сурхан.
— Придется вплавь перебираться. Держись, Курбан!
У самой воды вдоль берега быстро скакали темные фигуры всадников. Внезапно возникла короткая желтая вспышка. Курбан успел заметить, что Зуфар неуклюже привалился к шее коня...
Из темноты прозвучал далекий, чуть слышный голос Санджара:
— За мной!
Бурлящая стремнина понесла Курбана. Временами ему казалось, что водоворот втягивает в пучину и его, и коня; местами конь карабкался по камням, местами увязал в зыбучем песке, потом стремнина снова тащила в сторону. Весь мокрый, обессиленный, Курбан выбрался из воды и сполз на гальку.
И тут же он услышал голос Санджара:
— Эй, джигит, живой?
— Таксыр! Я здесь...
— Вижу, вижу. Можете встать?
Курбан сел и машинально ощупал руки и ноги.
— Скорее, надо ехать дальше.
Кряхтя и охая, Курбан забрался в седло.
— Вот что, — заметил Санджар,— Вы теперь не Курбан.
— Как Вы сказали, таксыр?
Курбан недоумевал. И так все походило на дурной сон, а тут прямо в глаза вам говорят, что вы совсем не тот, кем были всю жизнь.
— Вы больше не Курбан, — продолжал Санджар, а Санджар-бек, бывший командир отряда добровольцев, а теперь перешедший на сторону воинов ислама курбаши. Понятно?
— Да, — проговорил Курбан, — понятно, хотя ничего понять не могу...
— Утром мы приедем к Кудрат-бию. Он меня не знает в лицо. Вы будете Санджар-беком и будете договариваться с Кудрат-бием. Он предложит сдаваться Советской власти — соглашайтесь, потребует людей для нападения — соглашайтесь, на все соглашайтесь... Понятно?
Курбан нерешительно задавал вопросы. Его тревожила история с Зуфаром.
— А что, если курбаши заинтересуется, где его любимый помощничек?
— Скажем, что он остался у нас в лагере... Меня Вы назовете Садыком.
— Зачем все это?
— Нужно.
— Это опасно...
— У Кудрат-бия бородища такая, что в ней мыши завелись, кошка погналась за ними и не догнала за шесть месяцев. Кулак у него, как гора, а зубы, как копья. Ну, что же? Испугались? Убежим? Не поедем?
— Нет, поедем.
— Если Кудрат-бий догадается об обмане, он прирежет и Санджара, и Садыка...
— Надо сделать так, чтобы не прирезал.
— Слышу разумный разговор. А если он начнет нас задерживать, скажете мне...
И Санджар заговорил вполголоса. Курбан молча кивал головой.
Светало. Долина высвобождалась из-под пелены влажной мглы. Ветер стих. На высоком перевале Курбан осмотрелся. Увидев далеко позади себя цепочку всадников, он указал на них Санджару. Тот только взмахнул, понукая коня, камчой и заметил:
— Правильно, дела идут правильно.
— Кто-то едет за нами.
— Пусть едут. Чем больше их, тем больше у нас помощников на всякий случай.
Над Гиссарским белоснежным хребтом, над широкой долиной занимался умытый ночной грозой яркий летний день.
— А вот и чинары! — воскликнул Санджар. — Вперед же, Санджар, брат мой!.. Сейчас Вы увидите самого Кудрат-бия.
Их ждали. Из небольшого садика выскочил всадник и, неистово нахлестывая лошадь, помчался к видневшейся вдали купе гигантских деревьев. По бокам дороги почувствовалось оживление: за дувалами среди развалин домов замелькали полосатые халаты блеснул ствол винтовки.
Спешившись у обветшавших ворот, Санджар и Курбан вошли в большой гранатовый сад, где на глиняном возвышении восседал сам Кудрат-бий в окружении своих друзей, соратников по разбою и насилиям.
Курбан, шедший немного впереди Санджара, сделал несколько шагов к возвышению, затем высоко поднял руки и звонким голосом прочел по-арабски суру из корана. Присутствующие повторяли слово за словом. Правда, хор получился несогласный, так как никто не ожидал, что Санджар окажет Кудрат-бию почести, оказываемые обычно владетельной особе представителями дервишского ордена джахария. Но сам курбаши был польщен. Его лицо смягчилось, просветлело, и он поспешил принять участие в церемонии, затеянной Курбаном.
А Курбан старался изо всех сил, вспоминая уроки своего дядюшки, одного из пиров странствующей дервишской общины.
Он торжественно произнес «ва аллахуму селям» и обычную молитву приветствия, начинавшуюся словами «Аллахуму раббига». В заключение прозвучало громкое и торжественное «0-о-мин», подхваченное всеми присутствующими.
И если в душе Кудрат-бия и шевелились сомнения насчет молодого курбаши Санджара, только что, как известно, перебежавшего от Советов к воинам ислама, то сейчас всякие подозрения рассеялись, ибо трудно ожидать от красного столь глубокой религиозности.
Все снова погладили бороды и хором воскликнули: «О, да будет, святой дервиш, богоугодна твоя молитва!»
Курбан размеренными, торжественными шагами приблизился к возвышению, Кудрат протянул к нему руки.
Церемония встречи закончилась. Тогда подлинный Санджар отодвинулся немного в сторону, стараясь держаться скромно и незаметно, что подобает помощнику или адъютанту начальника отряда.
Какой-то елейный старичок, вздыхая и благочестиво поднимая очи горе, шепнул ему:
— О, как благолепно и хорошо. Совсем как в чертогах дворца их величества, повелителя правоверных эмира Алимхана. Помню...
Но Санджар не обращал на него внимания — он прислушивался к разговору Курбана с Кудрат-бием.
— О, — говорил Курбан, — я щедро вознагражден за долгое ожидание лицезрением вашей достойной особы. Все это он говорил с лицом вдохновенным и восторженным и произвел такое сильное впечатление на курбаши, что тот подвинулся и усадил лже-Санджара рядом с собой, внимательно разглядывая прославленного воина, еще недавно грозного охотника за головами басмачей.
— Я смотрю на вас, Санджар-бек, и поражаюсь, — заговорил Кудрат. — При вашей молодости вы так давно уже мчитесь по пути доблести.
— Такова воля всевышнего, — скромно ответил Курбан.
Начались благочестивые разговоры.
Санджар делал отчаянные усилия, сдерживая зевоту (зевать в обществе почтенных людей — верх неприличия), а неутомимый Курбан пустился в прения с Кудрат-бием и каким-то очень словоохотливым ишаном о священных текстах, предписывающих бритье усов... Тут же, совершенно непонятным образом, спорщики перскочили на сладость пребывания в раю бойцов за веру, павших в битве с неверными.
С досадой Санджар думал о том, что время уходит, а переговоры по существу не начаты. Он встал и подошел к возвышению, на котором среди пиал и пустых чайников восседал Курбан, ожесточенной жестикуляцией, подкрепляя свои самые запутанные суфийские доводы. Кудрат сидел красный, потный от неисчислимого количества пиал зеленого чая и от чрезмерных умственных усилий.
Ища поддержки и сочувствия, он обратился к подошедшему Санджару:
— Вот если человек почтенный, как вы, в походе... О!
Тупой взгляд его свиных, налившихся кровью глазок впился в лицо Санджара. Кудрат-бий забыл о предмете спора. Его память усиленно заработала. Он думал! «Где и когда я видел этого человека?»
С холодным любопытством Санджар следил за лицом курбаши, готовый ко всему. Ничто не выдавало его волнения.
Почтительным тоном он спросил, обращаясь к Курбану:
— Господин, время близится к полдню...
И Кудрат-бий, истинно восточный человек, поспешил скрыть под маской любезности обуревающие его подозрения.
Переговоры начались. Кудрат-бий извлек примитивно начерченный план города Денау и долго объяснял лже-Санджару, где намечено расставить басмаческие отряды во время церемонии сдачи.
— Вот здесь, несколько позади и сбоку, — Кудрат-бий хитро усмехнулся, — ваш отряд. Позади и сбоку... на большой термезской дороге.
— Но зачем же? — недоумевал Курбан.
— А еще дальше, вот тут, около старой стены, Вы оставите человек двадцать джигитов. У вас есть пулемет? Вы спрашиваете, зачем? Нам надо сохранить Сарыджуйскую дорогу. По ней к городу в полдень двинется отряд моего помощника.
Курбан растерянно смотрел на карту. В топографии он понимал гораздо меньше, чем в вопросах схоластики. Но Санджар, все еще стоявший около возвышения, был весь внимание.
Разговор продолжался несколько часов, и Кудрат-бию следовало прийти к заключению, что перед ним сидит человек, ничего не смыслящий в военном деле. Так и понял бы всякий на месте курбаши. Но Восток есть Восток, да и школа придворных кругов Бухары не прошла даром. Впитанные с детства хитрость, коварство повернулись сейчас против самого курбаши. Он начал думать, что его собеседник — тончайший дипломат, и, проникшись к нему уважением, решил раскрыть свои замыслы.
— Вы удивляетесь, — заговорил Кудрат-бий, — зачем все предосторожности? Я объясню, хотя вы знаете это не хуже, чем я. Большевики коварны. Они могут изменить своему обещанию, отнестись к нам со всей почтительностью и уважением, и тогда нам придется с оружием в руках доказывать, что мы — войско ислама — сильны и могущественны и что мы хотели сложить оружие из человеколюбия и нежелания проливать напрасно мусульманскую кровь...
Только теперь Курбан сообразил, в чем дело: — Вы хотите напасть на большевиков там, в городе?
И Кудрат-бий, окончательно запутавшийся в хитросплетениях лжи, принял возмущение Курбана за новое проявление лицемерия. Тяжело вздохнув, он ответил?
— Бог велик!
Во время разговора приближенные Кудрат-бия — начальники отрядов без войска, начальники крепостей без крепостей, большие и малые чины — слушали молча и лишь изредка кивали головами, выражая, по-видимому, одобрение и согласие.
Сейчас, когда переговоры уже заканчивались, Кудрат-бий вспомнил о своих советчиках. Он грозно посмотрел на подобострастные лица и резко сказал:
— Ну, а вы? Что скажете вы, мудрецы?
Те молчали. Курбаши рассвирепел:
— Что это значит? Нравится, скажите «хорошо», не нравится, скажите «плохо»! Ну же!
Елейный старичок заговорил:
— Великий бек! Ты собрал нас на совет, чтобы мы выслушали твое мнение. А нам что говорить? Если наш совет будет плохой, ты еще прикажешь под горячую руку отрубить голову. Нет, лучше помолчать, чтобы не плакали друзья наши, а враги не возрадовались. Ваш ум, господин, несравнен, ваши таланты...
Он захлебнулся от восторга.
Несколько секунд Кудрат-бий рассматривал исподлобья говорливого старичка, затем, поморщившись, сделал губами движение, как бы собираясь плюнуть. Но только презрительно крякнул.
Обращаясь к лже-Санджару, он заговорил вполголоса, напрашиваясь на откровенность:
— Надо бы укоротить руки наших врагов, а как это сделать, когда окружающие мою особу люди строят друг против друга козни, сбиваются с пути, проникаются духом строптивости. Но, слава богу, государство мое не без хозяина, а рука моя тверда.
После обильного обеда, когда Курбан и Санджар начали сборы в обратный путь, курбаши вдруг вспомнил о Зуфаре:
— Как здоровье нашего помощника?
— Благополучно... Они чувствуют себя благополучно.
— Что же он не приехал с вами?
— Они не высказали особого желания подвергать себя тревогам и опасностям переправы. Брод очень плохой...
Помолчав немного, Кудрат-бий осторожно зевнул, прикрывая рот ладонью.
— Вы хотите в темноте опять переправляться через проклятый Туполанг? Оставайтесь. Скоро поспеет плов с айвой, с мясом молоденького барашка. У меня повар из Кермине, из дворца самого величества. Знатный кухарь, может в одном котле сразу пять пудов рису сварить... Оставайтесь, не отпущу.
Все было очень вежливо, любезно. Лошади стояли под чинарами заседланные. Солнце спускалось за байсунскую гору, а курбаши все не отпускал гостей, все уговаривал их остаться. В голосе его не замечалось и признаков раздражения, на лицах конюхов, державших под уздцы коней, отражались терпение и скука, толпа имамов и приближенных вторила Кудрат-бию в самых подобострастных выражениях, и все же Курбан и Санджар поняли вдруг, что стряслось неладное и что выехать сегодня, пожалуй, не удастся.
Кудрат-бий хитрил.
Санджар сделал условный знак, и Курбан, прижимая руку к сердцу, направился к возвышению, где расстилали новые ковры.
Выражение полного удовлетворения разлилось по лицу курбаши. Курбан обернулся и сказал шагавшему за ним Санджару: — Брат мой! Садитесь на коня и передайте моим дорогим воинам, что начальник их Санджар пребывает в довольстве и благополучии в гостеприимном обиталище друга нашего Кудрат-бия... Скажите там: «Начальник ваш и господин обрел себе место на краю бекского одеяла и пользуется достойными для своего положения почестями». Поезжайте.
Санджар легко и ловко, но без излишней торопливости вскочил на коня и, крикнув «Хайр! До свиданья!», галопом поскакал по улице.
Резким движением обернулся Кудрат-бий на стук копыт, но было поздно.
Хор голосов приближенных проводил уже напутствиямн отъезжающего:
— Да будет вам путь.
И Кудрат-бий увидел в золотисто-красноватом облаке пыли, застилавшей сжатую слепыми домами улочку темную фигуру удалявшегося всадника. Курбаши вздрогнул. Надо вернуть этого человека, но как это сделать? Проводы состоялись, а задержать силой... закон гостеприимства нельзя нарушить. Пусть едет.
После ужина курбаши вдруг резко сказал:
— Вы горец, Санджар-бек, и никогда, по всей вероятности, не испытывали, что значит ветер теббад — ветер лихорадки, а?
— Нет, я не слышал о ветре теббад, — осторожно заметил Курбан, не понимая еще толком, к чему клонится разговор.
— Страшный ветер теббад, дующий в пустыне Кызыл-Кум. Очень страшный.
Думая, что Кудрат-бий начинает рассказывать какую-то историю, Курбан изобразил на лице почтительное внимание и приготовился слушать. Но курбаши после паузы заметил:
— Этот ваш помощник, ну, который, уехал сейчас, он из Бухары?
—Он, кажется, из Шахрисабза, — соврал Курбан, напряженно соображая, к чему ведут все эти странные вопросы.
— Из Шахрисабза? Нет... у этого человека кызыл-кумский говор.
...Санджар, не меняя аллюра, спускался к долине реки Туполанг. В спине он ощущал какую-то скованность. Ему казалось, что из-за каждого куста, из-за каждого полуразрушенного дувала высовывается винтовка и черный кружочек дула медленно провожает его затылок. Он успокоился, увидев у реки группу своих всадников.
На самом берегу Санджар позволил себе впервые обернуться. Убедившись, что кругом, на многие сотни шагов, нет ни души, он с облегчением вздохнул и громко сказал:
— Так вот, наконец, где мы встретились, Али-Мар-дан... Ну, не поиграет кошка с мышкой.
Слова потонули в ворчливом шуме реки.
V
Было время, шумели базары Дех-и-нау, ревом оглашали бесчисленные ослы улицы и проулки города, пестрели площади красными, синими, белыми чалмами, сотни азанчей возглашали три раза в день с минаретов всемогущество бога. Горные локайцы проезжали, смотря поверх голов, сквозь почтительно расступавшуюся толпу; скакали, вздымая белесую пыль, бекские глашатаи; русобородые горцы, облеченные в живописные лохмотья, важно шествовали мимо лавок торговцев шелком; голодные, полунагие ребятишки глазели на горы пельменей, румяных пирожков и белых сдобных лепешек, выставленных на чеканных подносах и глиняных расписных блюдах. А под вечер, когда солнце, цепляясь за верхушку Байсунской горы, бросало последний взгляд на Гиссарскую долину, тысячи голубоватых дымков, как по сигналу, подымались к темнеющим небесам, и ноздри начинал щекотать запах плова, столь густой, что, по выражению Муллы Агзама бек-бобо, достопочтенного историографа хакима Гиссарского, от одного вдыхания голодный мог насытиться на целый день и даже еще больше.
Было время...
Война, голод, болезни пришли в Денау рукл об руку. Истребительные бекские междоусобицы, малярия, эпидемии неведомых повальных болезней и, наконец, неслыханное поветрие проказы привели к тому, что в конце прошлого столетия город обезлюдел. Эпидемия проказы совпала со вспышкой чумы в кишлаке Анзоб к северу от Гиссара. Вымерли и окрестные кишлаки. Слово «Денау» звучало проклятием. Всех, даже здоровых жителей города называли теперь «махау» — прокаженными. Их гнали отовсюду, и они жили подаянием.
Высохли каналы и арыки, зеленая стена болотных камышей вплогную подобралась к воротам города, подпочвенная вода поднялась, и соль начала подтачивать дома, разъедать основания минаретов. Тугайные заросли завоевывали улицу за улицей, площади, дворы. По ночам на уцелевших крышах тонко выли шакалы, зловеще хохотали гиены.
Вслед за приходом в 1921 году военного гарнизона в Денау образовался Ревком. Открылись первые советские учреждения. Правда, их действие еще распространялось только на город и ближайшие кишлаки, но народ, все еще трепетавший перед басмачами, потянулся всем сердцем, всей душой к Советской власти, видя в ней свою избавительницу от векового гнета деспотов и феодалов. Из далеких горных кишлаков шла в Денау беднота за помощью, за правдой. Многие, спасаясь от кровавой мести курбашей, селились в Денау. Население города быстро росло.
Но в это же время прокладка через Денау торгового тракта в сторону центра Восточной Бухары Душанбе привлекла сюда и всякий сброд. Возникали базары, появились торговцы, темные дельцы, лошадиные барышники, опиумокурильщики, анашисты, монахи дервишских мусульманских орденов. Весь люд оседал в чайханах, бродил по базарам, щупал товары, при удобном случае прихватывая их с собой, вел азартные игры, толкался, пел, торговался, выпивал несметное количество чайников чая, совершал сделки...
Сырая, мрачная мазанка стоит позади развалин кирпичного медресе. По сбитым, вырытым в кочковатой глине ступеням Кошуба, Джалалов и Медведь в полной темноте спускаются вниз. Резкий запах ударяет в нос. Пахнет кунжутным маслом. Из глубины не то погреба, не то пещеры вырываются скрипучие звуки, покашливание и тонкий детский голосок: «Пошг, пошт!» Большое животное, тяжело сопя, гулко топает ногами.
Трепетный огонек светильника, стоящего в нише, не может рассеять мрак, а едва выхватывает из него громоздкие, непрерывно двигающиеся со стоном и скрипом балки и жерди...
Морда лошади на секунду появляется в полосе света, испуганно жмурятся большие еле светящиеся глаза, нервно шевелятся мохнатые уши. Потом выныривает юноша, почти мальчик, в почерневшей засаленной тюбетейке, в лохмотьях. Нежное, миловидное лицо лоснится, как смазанное маслом. В глазах — выражение бесконечной печали. Губы шевелятся. Под нависающим черным потолком глухо отдается: «Пошт, пошт!»
Из черной дыры вылезает человек. Это глубокий старик. Он бросается к Кошубе, шамкая беззубым ртом приветствия. Командир мягко берет в обе ладони руки старика и вполголоса что-то спрашивает. Старик показывает на дыру, и Кошуба исчезает в ней, бросив тоном, не допускающим возражений: «Будьте добры, подождите здесь.. Поговорите с ним».
Старик ведет гостей в глубь помещения. Здесь чисто и даже уютно. Расстелены старенький палас, одеяла. На скатерти расставлено скромное угощение. Видно, гостей ждали. Хозяин суетится, он гостеприимен и непрерывно говорит. Он рассказывает о себе, о своей жизни — жизни полураба. Усто-Фаттах — маслобойщик, он всю жизнь не выходит из этой ямы, всю жизнь слушает скрип примитивной маслодавилки — майджуваза.
Все оборудование ее состоит из большой выдолбленной колоды. В углубление, наполняемое семенами масличных растений — кунжута, хлопка, сафлора,— упирается огромный пест — бревно, приводимое во вращательное движение лошадью, ходящей изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год по кругу под монотонные крики «Пошт, пошт!» Бревно растирает семена, выдавливает из них масло, которое стекает через отверстие в тыквенную бутыль...
Усто-Фаттах никогда не получал больших доходов.
— Амлякдар говорил мне, — рассказывает он. — «Ты. Усто-Фаттах, богатый человек, и я надбавлю на тебя налог». Но разве можно говорить о богатстве... Если крутился майджуваз от часа, когда чуть забрезжит свет над горами, и до полуночного намаза, то от продажи масла и жмыха можно было выручить в день сорок копеек. Но разве я мог истратить эти деньги на хлеб и рис для семьи? Ведь надо покупать семена, чтобы давить из них масло, надо покупать три снопа клевера для лошади, ячмень...
Он тяжело вздыхает.
— Да, Усто-Фаттах был «богатым» человеком... Если он получал сорок копеек, то двадцать забирал амлякдар, но Усто-Фаттах сводил концы с концами, когда все шло хорошо и джуваз скрипел целый день и даже больше. А если Усто-Фаттах хоть на один день заболевал... или он хотел посидеть в базарный день в чайхане, или отпраздновать рождение сына... Да, каждый такой день приносил слезы, ибо тогда в доме не находилось ни кусочка лепешки, ни фунта риса, Усто-Фаттах, «богаты» человек, шел тогда к лихоимцу ростовщику и умолял дать ему пятьдесят копеек с тем, чтобы через месяц отдать вдвойне. Ха, «богатый» человек Усто-Фаттах. О, он был богат слезами и вздохами. Нет справедливости...
Скрипит майджуваз, трепетно прыгает пламя, шевелит ушами уже давно не видевшая дневного света отупевшая лошадь.
— Пошт, пошт! — глухо отдается в подземелье.
— Мой сын, — говорит старик, показывая покрытым ревматическими шишками пальцем на юношу. — Вы, юноши, счастливы... Вы молоды. Ваша жизнь другая. А я родился слишком рано. Очень давно жил поэт, и он в старости сказал: «Погибла юность, владычица чудес. О, если бы ее догнал бег летящих молнией коней!» Где моя юность?
Внезапно появляется Кошуба.
— Что вы приуныли? Не верьте старику, что он так уж дряхл, что он за сорок лет такой работенки стал рабом бессловесным. Чепуха. — Он положил на плечо Усто-Фаттаху руку. — Знаете, кто он? Наш старик — лучший из стариков в мире. Это он — участник восстания славного крестьянского революционера Восе. Это он воевал с беками и эмирскими сарбазами, это он вместе с тысячами таких же ремесленников разрушал цитадель феодалов — Денауский арк. Это тот самый Усто-Фаг-тах, у которого здесь, в этой мрачной дыре, собирались впоследствии члены тайного дехканского общества:! «Длинные пики», при одном упоминании которых трепетали могущественные гиссарские беки. Да знаете ли вы, что были годы, когда наш старик говорил: «Да не будет с бедняка Ахмеда взято ни одного чоха налогов», и ни один амлякдар, если он имел в башке хоть крупинку здравого смысла, не решался заглянуть в дом Ахмеда. Это тот самый Усто, который первым раскусил басмаческих курбашей и разъяснял народу, кто враги и кто друзья. Вот он кто такой, Усто-Фаттах... Да что и говорить — он и сейчас неоценимый наш помощник. Настоящий агитатор. Послушали бы, как он рассказывает дехканам о Ленине!
Ну, пошли. В ту ночь в Денау мало кто спал: в чайханах, в харчевнях, караван-сараях шли приготовления к встрече грозных гостей. Стучали ножи; опытные повара искусно резали морковь, и груды желтой лапши вырастали на подносах. Жалобно блеяли бараны, которых вели на убой. В красном отблеске костров белели жирные освежеванные туши. Шутка ли сказать — предстояло накормить сотни людей. Торгаши ожидали богатых барышей.
Звенели дутары, тянулась гортанная монотонная песня.
Тревожные слова неслись из заброшенных садов, из чайхан, с берега реки.
Невидимые певцы пели:
В комнате Кошубы горел свет.
На донесение о певцах и подозрительных песнях командир не обратил внимания.
— Едем на охоту... — вдруг заговорил он. — На рассвете стрелять гусей.
— А церемония сдачи? А Кудрат-бий?
— А мы к параду вернемся.
И Кошуба уехал на охоту. Уехал в такой момент, когда, казалось, все свои силы, всю энергию следовали отдать подготовке к завтрашнему дню.
С топотом, бряцанием оружия проскакала группа всадников по неровным, вымощенным огромными камнями улочкам города, мимо ярко освещенных чайхан, где степенно пили чай спустившиеся с гор дехкане.
Было поздно, уже караульщики объявили вторую стражу ночи, но никто не помышлял о сне. Над заброшенными садами неслись песни, и звукам их аккомпанировал звонкий плеск струй, мчавшихся по каменистому ложу.
Подскакав к большой чайхане в центре города, Кошуба громко, так, чтобы заглушить и песни, и звон сотен пиал, и шелест листвы чинар, позвал:
— Гулям!
— Есть! — из особенно оживленной группы чалмоносных, почтенных денаусцев поднялся Гулям. Под матерчатым козырьком краснозвездной буденовки, сидевшей задорно на самом темени круглого бритого черепа, поблескивали лукавыми огоньками карие глаза.
Ловко лавируя между тесно сидевшими на паласах и коврах посетителями, толстяк подбежал к краю помоста.
— Гулям! — опять очень громко сказал Кошуба. Уезжаю на охоту.
Гулям сделал движение, выражавшее крайнюю степень изумления. Кошуба многозначительно протянул:
— Понятно? На охо-ту. Будьте готовы к одиннадцати.
Он отдал честь с блеском и четкостью, присущим! только старым кавалеристам, и, тронув поводья, отъехал от чайханы.
Так отряд останавливался еще в двух-трех местах и всюду Кошуба отдавал распоряжения своим бойцам. И всюду бойцы оказывались в самой гуще народа.
Выехав из города, отряд поскакал по щебнистой равнине к пойме реки.
Поднималась луна, космы тумана ползли к горам, цепляясь за верхушки камыша. Впереди тускло мерцала свинцовая гладь воды. По бокам узкой тропинки высились гигантские кусты.
Командир уверенно вел отряд в глубь чангала, насвистывая веселый вальс. Внезапно он резко осадил коня перед высокой изгородью из связок камыша и хвороста.
Эй, эй! — крикнул Кошуба.
Но ветер без ответа шуршал камышом.
— Эй, эй! — еще громче прокричал командир.
В предрассветной мгле возникла фигура человека. Между Кошубой и человеком произошел быстрый обмен приветствиями. Говорили они на каком-то путаном жаргоне из узбекских, локайских и таджикских слов, но это не мешало им отлично понимать друг друга.
Кошуба повернулся к всадникам:
— Тут поблизости озеро. Там с прошлого года эдакий гусище плавает. Живая цель для стрельбы. Однако гусь заколдованный. В него все приезжие командиры стреляют, но все мимо. Попробуйте, вот он проводит. А я задержусь.
И крикнул вдогонку:
— Стреляйте в гуся, стреляйте в уток, стреляйте во что хотите, но чтобы было много шуму, чтобы в Денау было слышно.
Поеживаясь от холода, всадники продирались сквозь камыши к озеру. Охота кончилась неудачно. Да и что подстрелишь при лунном неверном свете! Злые, промокшие от росы охотники возвращались через час в Денау.
У небольшой хижины, спрятавшейся среди камышей, виднелись силуэты двух оседланных коней. Из хижины доносился голос Кошубы и еще чей-то, очень знакомый. Каждый невольно подумал о Санджаре, но вслух никто не произнес этого имени.
Нехотя, медленно всходит солнце над болотами Денау. Серые, тяжелые испарения, пропитанные гнилью, густой волной катятся из камышовых дебрей и зеленовато-желтым одеялом окутывают заброшенные сады, полуразвалившиеся щербатые дувалы. Долго борется солнце с болотной мглой, редкие лучи пробивают толщу тумана и, наконец, вырывают из него стены древних кирпичных медресе — памятников утраченного величия города.
...Светает... Группа всадников в полном молчании движется под аркой сплетающихся древесных крон. Дрожащий свет приближающегося утра с трудом проникает сквозь густую листву.
Нельзя разглядеть, кто едет по дороге.
Неудивительно, что сторож, сидевший на ветхом дощатом помосте перед сонным хаузом и в зябкой дремоте кутавшийся в пастушеский халат, обознался. Спешившиеся всадники окружили помост. После минутного замешательства двое-трое из приехавших поднялись по скрипучим доскам к широкому, ярко освещенному окну чайханы, заклеенному толстой бумагой.
К чайхане подъезжали все новые всадники и, так же неслышно спешившись, проходили вправо и влево. Позади здания в конюшне некоторое время шла возня, потом все стихло... Из чайханы слышались приглушенные голоса:
— Тихо! Сидеть смирно...
Дверь чайханы распахнулась, и в комнату вошли бойцы Кошубы. Вокруг потухшего очага в живописных позах лежали и сидели люди, похожие на мирных дехкан. Только белые войлочные казахские шапки да добротные сапоги с загнутыми носками отличали собравшихся здесь людей от полунищих, раздетых и разутых гиссарцев.
Здесь, в чайхане, как сообщил комбригу Кошубе через своих связных Санджар, была выставлена по распоряжению Кудрат-бия застава, прикрывающая путь к отступлению из Денау на всякий непредвиденный случай. Таких застав расставили в окрестностях города несколько. Кудрат-бий разбросал группы хорошо вооруженных нукеров и на дорогах, и в пригородных садах, и на склонах холмов.
Басмачей захватили врасплох. Некоторые из них повскакивали, ничего не соображая. Молодой черноусый, щеголевато одетый джигит, прислонившись спиной к столбу, подпиравшему потолок, смотрел на вошедших в бессильной злобе.
— Ни звука! — вполголоса предупредил Джалалов.
Взгляд черноусого блудливо забегал и остановился на темной нише, где поблескивали самовары. Казалось, он измерял расстояние.
Тогда Джалалов спокойно замегил.
— Не трудитесь напрасно... — И крикнул: — Входите! Из-за самоваров через широкое окно в чайхану вошли бойцы.
— Оружие сложите вот здесь, — приказал отделенный командир — Только побыстрее, нам некогда... Нет, нет, все .. Ножи тоже сюда положите.
Очень скоро шум внутри чайханы стих. Желтый свет, пробиваясь через бумагу, по-прежнему падал на поверхность хауза, и вода поблескивала сквозь туманную пелену.
На помост снова уселся страж в белевшей в темноте казахской шапке и положил на колени винтовку.
Небо на востоке светлело. Между деревьями кое-где чуть розовели снежные вершины. Запели петухи.
На дороге появилась большая группа конников. Один из всадников, скакавший впереди, не останавливаясь, крикнул поднявшемуся во весь рост на помосте стражу:
— Не уставай, самоварчи!
— Путь вам добрый.
— Как дорога?
— Дорога счастливая...
— Смотрите во все глаза!
Свыше сотни всадников, звеня богатой сбруей, не задерживаясь, проехали быстрым ходом мимо чайханы, пересекли вброд большой арык, напоили лошадей и по извилистой улице двинулись к главной площади Денау.
Когда последний всадник скрылся за поворотом, из дверей чайханы вышел Джалалов.
— Дверка захлопнулась, — сказал он, обращаясь к кому-то, находящемуся внутри помещения.
«...Така-така, так, тум! Така-така, так, тум! Так, тум, так, тум!» — донесся с площади ртмичный бой барабаyf. Взревели карнаи, радостно приветствуя медно красные лучи солнца, брызнувшие на мокрую от росы листву деревьев, на пыльную дорогу, на зеленую воду хаузов.
— Началось, — проговорил Джалалов.
Он вскочил на лошадь и поскакал к площади.
Начинался день — день позора басмачей, день торжества народа. Какие бы ни делал расчеты Кудрат-бий, когда он изъявил желание сдаться на милость Красной Армии, как бы ни повернулись события, все понимали, что этот день — начало конца басмачей. Они могли еще драться, могли убивать из-за угла, запугивать, разбойничать, метаться в звериной ярости по долинам и горам, оставляя за собой кровавый след, но организованной борьбе пришел конец...
Курбаши Кудрат-бий сдавался на милость победителей. Он вывел на денаускую площадь своих всадников, и перед небольшим помостом, покрытым красным паласом, вытянулось что-то вроде строя. Лошади, не приученные к порядку, рвались вперед, пятились назад, грызлись, кружились на месте. Ряды спутались. Непрерывно колыхался клубок чалм, бород, халатов. Бряцало оружие, цеплялись стремена, путались удила...
Стоял оглушительный гомон. Ржали и ревели кони, гудели карнаи, били барабаны, пронзительно стонали сурнаи. В толпе любопытных горожан, сбившихся у входа на площадь, в улочках и переулках, отчаянно завывали маддахи, дервиши, каляндары, распевавшие суфийские песнопения о любви к богу или просто дико выкликавшие: «Нет божества, кроме аллаха, хвала ему! Бог велик».
В толпе людей и в рядах конников ловко шныряли с большими медными подносами в руках торговцы сладостями, водоносы, лепешечники. Они вносили свою долю в этот базарный гомон истошными криками:
— Ледяная вода! Ледяная вода!
— Лепешки! Сдобные лепешки!
— Сладости!
— Вода! Холодная вода!
Мальчишки суетились под ногами, глазели на коней, рассматривали серебряные украшения сбруи, филигранную отделку ножен, бархатные нарядные пояса и во всеуслышание бесстрашно обсуждали кровавые деяния того или иного известного своими зверствами курбаши.
— Фазиль! Вон Фазиль с черными усами! Сжег Ак-Тепе.
— А этот, в золотом чапане... Вон, вон! Сардабек, вырезал семью хупарского пастуха.
— Это он в Сарьшуле повесил женщин. Три дня выклевывали вороны им глаза...
— Вот убийца детей, Палван-беззубый! Бежим!
— Зачем? Ему сейчас бороду подстригут. Сдается.
— Сдаются!
Басмачи старались не замечать мальчишек. Гордо восседая на своих конях-зверях, они совсем не походили на битых, сдающихся в плен бандитов. Они держались надменно, как торжествующие победители, захватившие город и собирающиеся вот-вот предать его разграблению.
Они поглядывали по сторонам, смотрели на плоские крыши, густо усеянные народом, перешептывались, ухмылялись в бороды.
Старые седые дехкане, стоявшие поближе, покачивали головами и вздыхали. За последние годы они впервые видели такую массу вооруженных с головы до пят басмачей у себя, среди родных домов Денау, и тревога закрадывалась в их сердца. Тревожные слухи перебегали в толпе, и нет-нет кто-нибудь нырял под локтями соседей и, проскользнув между тесно стоявшими людьми, спешил выбраться с площади.
Один комбриг Кошуба, по-видимому, ничего не замечал. В сопровождении своих командиров он шел по образовавшемуся в толпе проходу и спокойно всматривался в напряженные, взволнованные лица. Увидев знакомого, он приветливо здоровался с ним. Много имел Кошуба в Гиссарской долине добрых друзей.
Командир поднялся на помост и очутился лицом к лицу с Кудрат-бием, сидевшим на великолепном буланом текинском скакуне. Толстое одутловатое лицо курбаши изображало равнодушие и безразличие, глаза прятались за синеватыми морщинистыми веками, грудь судорожно вздымалась под бархатным кафтаном, украшенным серебряными бухарскими и афганскими звездами. Ноздри Кудрат-бия раздувались, и Кошуба сразу понял, что басмач злится.
Кошуба молча смотрел на Кудрат-бия, ожидая, когда он, наконец, соблаговолит открыть глаза. Командир не отрывался от его лица и не обернулся даже, когда позади послышался взволнованный шепот Джалалова:
— В городе тревожно, женщины с детьми бегут в сады...
Чуть заметным нетерпеливым движением руки Кошуба заставил Джалалова замолчать и громко произнес:
— Приступим.
И, хотя слово это слышали лишь близстоящие, плошадь почти мгновенно стихла. Наступила полная тишина, нарушаемая негромким пофыркиванием лошадей.
Подняв лениво веки, Кудрат-бий тревожно обвел взглядом стоявших на помосте командиров и представителей Советской власти. Стараясь не ворочаться глазами со взглядом Кошубы, он посмотрел на высокою крышу медресе, пестревшую яркими халатами, и чуть заметно улыбнулся.
Потом, молитвенно подняв руки, он громко и внятно, как и подобало, прочитал фатиху. Его заключительное «Омин!» подхватили все курбашн и нукеры. Так приступают басмачи к битве. Знал это Кошуба, знали об этом и его командиры.
Кошуба ждал, не спуская глаз с Кудрат-бия.
— Здравствуй, — резко сказал по-русски Кудрат-бий, и губы его искривила презрительная усмешка. — Здравствуй, начальник!
В голосе его звучало нескрываемое торжество. Он выпрямился в седле, откинулся и картинно уперся в бедро рукояткой камчи.
— Плохой признак: не сказал даже «Салам алейкум», — проговорил чуть слышно кто-то из командиров.
— Здравствуйте, таксыр парваначи! — сказал Кошуба.
Бросив направо и налево взор, исполненный величия и надменности, курбаши сделал знак своему хранителю печати, и тот медленно, с расстановкой произнес:
— Вот мы, посоветовавшись с мудрыми, решили и соблаговолили оказать милость городу Денау и посетить место, где недавно восседали могучие беки денауские, верные слуги бога, пророка и эмиров.
Так-как Кошуба молчал, хранитель печати продолжал:
— И с нами прибыли сюда наши токсаба, ясаулы и прочие чины и наши доблестные воины, дабы мы могли в полном спокойствии и, не опасаясь никаких утеснении, вступить в переговоры с начальниками войска, не признающими пророка и именующими себя «большевиками».
Не поворачивая головы, Кошуба уголками глаз примечал, что басмачи нетерпеливо поправляюг на плечах ремни винтовок. Он перевел глаза на ручные часы. Стрелки показывали без пяти минут десять. Почти не обращая внимания на монотонный голос храпителя печати, Кошуба напряженно ждал. И вот, когда большая стрелка засекла цифру двенадцать, издалека уверенно и четко, с правильными интервалами прозвучали пять выстрелов. Они донеслись с термезской дороги.
Едва заметная тень тревоги, омрачавшая лицо командира, растаяла. Он откровенно улыбнулся Курбану, сидевшему на коне среди приближенных Кудраг-бия, в двух шагах от самого курбаши, и, чуть повернув голову, посмотрел на медресе.
Трудно сказать, слышал ли выстрелы Кудрат-бий, но он встрепенулся и тоже посмотрел на медресе. Над зданием медленно и величественно, полыхая красным полотнищем, поднимался советский флаг.
— Сми-и-р-но!
Команда прозвучала так повелительно, что все басмачи вытянулись в седлах. Советские командиры взяли под козырек.
Зазвучали торжественные звуки «Интернационала». Они неслись из портала медресе.
Досадливо поджимая губы, курбаши морщился. Подозвав рыжебородого ясаула, он спросил его о чем-то. Тот посмотрел на угол медресе, где находился въезд на площадь, и недоумевающе пожал плечами.
Смолкла музыка. Громко, на всю площадь, зазвучал голос Кошубы. Говорил он на таджикском языке, наиболее понятном в этих местах.
— Таксыр, от имени Советской власти спрашиваю: прибыли вы с миром или войной?
После длительной паузы, во время которой басмачи поспешно перекидывались взглядами и чуть слышными замечаниями, Кудрат-бий громогласно ответил:
— Наши мнения, да будет на них одобрение бога и пророка его, изложены в бумаге и скреплены печатью нашей и печатями наших военачальников. Эй, хранитель печати, вручи наше послание начальнику урусов.
— Нет,— сказал Кошуба, — читайте вслух! Обращаясь к соседу, он усмехнулся и заметил вполголоса: «Вот где сказывается, что он был чиновником эмира. Вечно перепиской занимается. Конца краю не видно».
Тем временем хранитель печати тяжело спустился с лошади, взошел на помост и начал читать:
«Бисмилля, да будет снисхождение и милость аллаха и его пророка к нам. Вот уже много лет, не покладя рук, мы, воины ислама, ведем священную войну. Многие из нас стали мучениками за веру и снискали себе блаженство в раю, много великих noбeд одержано нашим воинством. Но тяжело бремя войны, и тяготы походов разорительны для мусульман, а потому, да будет над нами покров аллаха, решили мы, совместно с могучими и прославленными военачальниками нашей армии, после долгих и мудрых совещаний внять просьбам и приглашениям Советской власти, начать здесь, в хакимской резиденции Денау, переговоры, полные разумных мыслей и благожелательства, о прекращении военных действий и о заключении между исламской армией и Красной Армией перемирия. Да будет благословение аллаха над теми, кто смиряет свои страсти и вожделения и полон угодного аллаху смирения и благоразумия. Да будут проявлена мудрость, умеренность и терпимость в условиях, которые предложите вы нам, представители Советов. Бог велик!»
Отвесив глубокий поклон, хранитель печати вручил послание Кошубе и медленно сошел с помоста.
— Вы слышали, товарищ начальник? — В голосе Кудрат-бия зазвучали иронические нотки.
Хранитель печати взобрался на коня и, подъехав к Кудрат-бию, негромко сказал:
— Посмотрите влево.
Раздвинув передние ряды, из толпы вышел дервиш в высокой шапке. Поймав взгляд курбаши, он что-то прогнусавил по-арабски.
Кудрат-бий победоносно оглянулся.
— Таксыр, — сказал невозмутимо комбриг. Он словно ничего не замечал. — Таксыр, сейчас я прочитаю ответ от имени Советской власти и командования Красной Армии.
— Хорошо, мы слушаем, — ответил Кудрат-бий.
Он поудобнее расположился в седле. Он склонялся к тому, чтобы растянуть церемонию. Пусть говорят об этом знаменательном дне и в Гиссаре, и в Кухистане, и в Бухаре. Пусть разнесется слава о нем, о Кудрат-бие, по всему Туркестану, пусть вести проникут и за Пяндж, в столичный город, где мирно отдыхает, надеясь на своих верные слуг, повелитель благородной Бухары. Пусть о его, Кудрат-бия, уме, могуществе, хитрости войдет слава в века. Пусть падут перед ним ниц в восторге мусульмане, пусть затрепещут враги. Еще несколько минут он может потерпеть надменный тон этих «мужиков», сголь глупых и доверчивых. Еще немного — и народ, собравшийся на площади, увидит невиданное, услышит неслыханное.
— Мы слушаем твои слова, — повторил Кудрат-бий.
Командир развернул большой лист бумаги, на котором было написано всего несколько строк.
— Прошу сойти с коня, — сухо сказал Кошуба.
В рядах басмачей возникло легкое замешательство. Слегка приоткрыв рот, пораженный Кудрат-бий смотрел на командира. Курбаши показалось, что он ослышался.
— Это важный документ. Его надо выслушать стоя, — пояснил Кошуба.
Поколебавшись немного, Кудрат-бий наклонился и начал грузно сползать с коня. К нему подскочил хранитель печати и двое ясаулов. Путаясь в длинных полах халата и цепляясь за драгоценные ножны сабли, парваначи поднялся по ступенькам на помост. Встав на краю, он скрестил руки на животе, откинул голову и небрежно бросил:
— Я слушаю.
— Простите, таксыр, еще не все. Дайте команду спешиться вашим джигитам.
— Зачем? — В голосе Кудрат-бия звучало раздражение.
— Неудобно, вы стоите, а они...
Кудрат-бий наклонился к ясаулу:
— Прикажите.
Неуверенно прозвучала команда.
Гремя оружием, нукеры спешились и, толкаясь и стукаясь винтовками, выступили вперед, поближе к помосту. Лица у многих побагровели, напряглись. Слышался тихий, сдержанный ропот.
Тогда Джалалов подошел к Кудрат-бию и, почтительно приветствовав его, сказал ему что-то очень тихо.
Курбаши потемнел и как-то сразу поблек. Почти не поворачивая головы, он быстро пробежал глазами по фасаду медресе. И то, что он увидел, заставило его пробормотать не то суру из корана, не то проклятие.
Весь фасад медресе состоял из стрельчатых ниш с небольшими балкончиками, на которые выходили резные дверцы. И вот только сейчас Кудрат-бий заметил, что ни на одном балкончике нет уже любопытных и что каждая из шестнадцати дверей на фасаде медресе открыта и черным провалом зловеще смотрит на него, на площадь и на его воинов.
— Я читаю, — послышался голос Кошубы. — «Командующему гиссарскими и байсунскими воинами. Советское командование согласно принять сдачу курбаши Кудрат-бия, курбаши Садык-бека, курбаши Палван-беззубого, курбаши Лютфуллы с их джигитами.
Условия:
1. Означенные курбаши и нукеры немедленно сдаюг все оружие и все боеприпасы.
2. Нукеры дают торжественное обещание не подымать оружия против Красной Армии и Советской власти.
3. Нукеры расходятся по домам и приступают к мирному труду.
4. Курбаши по своему желанию или поселяются в своих родных кишлаках, или уезжают в избранные ими места.
5. Виновные в грабежах и насилиях над дехканами подлежат суду народа».
Толпа басмачей зашумела, послышались протестующие выкрики. Кошуба выступил вперед и громко спросил:
—Я спрашиваю, Кудрат-бий, согласны ли вы?
Опустив голову, нахмурившись, стоял могущественный курбаши. Рука лихорадочно вертела камчу, Лисьи глазки его пробежали снова по фасаду медресе. Теперь он явственно различал в каждом темном четырехугольнике двери остроконечные звездастые буденовки и поблескивание оружия. В полной тишине прозвучал надтреснутый голос Кудрат-бия:
— Да, согласен.
— Приложите к акту вашу печать.
Подскочил хранитель печати. Бессильно опустив руки, Кудрат-бий отвернулся, не глядя ни на кого...
Нерешительно поднимались на помост соратники Кудрат-бия по кровавым делам — курбаши Палван-беззубый, курбаши Лютфулла, курбаши Садык-бек. Каждый вытаскивал из шелкового поясного платка кошель, доставал серебряную печатку и прикладывал ее к акту о сдаче, предварительно помусолив намоченными слюной пальцами.
Недоуменно озираясь, курбаши проходили на конец помоста, где стоял Кудрат-бий. Они молчали, выразительно поглядывали друг на друга и на своего начальника.
Они еще думали, что не все потеряно, что сейчас в условных местах прозвучит призыв. Ведь появился уже дервиш в высокой шапке. Правда, немного позже должно было последовать новое предупреждение о том, что все готово, что улицы и дороги заняты, что друзья здесь. Но сигнал запаздывал...
Ясаулы, сотники и прочие мелкие басмаческие начальники в ярости и нетерпении сжимали в руках винтовки, их взгляды выражали тревогу и откровенную ненависть.
Иное дело рядовые басмачи. Большинство из них, увидев, что курбаши приложил к «мирной бумаге» печать, галдя и шумя двинулись к помосту и, не дожидаясь команды, стаскивали с себя винтовки, сабли и беспорядочно складывали их в кучу перед помостом. Некоторые делали это с тревогой, некоторые мрачно, с сожалением, а многие очень охотно.
Высокий басмач с перебитой левой рукой бросил с треском винтовку в кучу и, взглянув на группу молчаливых курбашей, насмешливо произнес.
— Бог велик! Войне конец. — Обращаясь к сумрачной толпе басмачей, он крикнул: — Эй вы, санггардакцы! Эй ты. Быстрый, и ты, Хамид, и ты, Тяжелый, давайте скорее. Если сейчас выйдем, то к вечерней заре доберемся до Сары-Джуя, а завтра вдохнем родной дым своего очага. Пошевеливайтесь!
Подойдя к помосту, он спросил Кошубу, наблюдавшего за сдачей оружия:
— Начальник, можно лошадь взять?
— Можно.
— Эй, друзья, — закричал высокий, — лошадей нам дают, пошевеливайтесь!
Нукеры оживились. Сдача оружия пошла быстрее. Перед грудой винтовок вытянулась очередь.
Народ теснился у площади, молча глазея на невиданную картину. Никто не раскрывал рта, каждый старался не упустить ни малейшей подробности происходящего. Толпа не выражала своих настроений — слишком еще боялись Кудрат-бия...
Гопот коня ворвался в ровный гул, стоявший над площадью. В боковой улице послышались тревожные возгласы. Курбаши встрепенулись. Поднял голову и Кудрат-бий.
— Дорогу! Дорогу! — кричали в толпе.
Через гущу людей пробивался всадник. Горожане и дехкане шарахались в сторону от копыт его коня.
Подлетев к помосту, всадник крикнул Кошубе:
— Командир, измена! — И начал как-то неловко заваливаться набок...
Все лицо, рубаха на груди, руки у него были покрыты пятнами свежей, не запекшейся еще крови. С трудом все признали в этом человеке одного из джигитов Санджара.
Десятки рук подхватили джигита и подняли на помост. Кто-то протянул флягу.
Отстранив поддерживавших его командиров, джигит, шатаясь, сделал несколько шагов к группе басмаческих курбашей и во весь голос крикнул:
— Предатели! Змеи! — Он показал рукой на курбашей. — У них на языке мед, а в сердце смерть. Они окружили Денау вооруженными бандами. На всех дорогах прятались их люди с ножами, ружьями, саблями. Во всех чайханах сидели разбойники, во многих домах. Слушайте об их коварстве! Под видом сдачи они хотели напасть на Денау, убить командиров, красноармейцев, сжечь советских людей, устроить резню. Ограбить Денау, изнасиловать девушек. Вот они!..
Гул возмущенных возгласов, нарастая, поднимался над площадью.
— К ответу! К ответу! — кричали дехкане. Вся площадь шумела, как растревоженный улей.
Когда растерявшиеся курбаши безропотно дали себя разоружить и на площади воцарилась относительная тишина, Кошуба подошел к Кудрату и сказал ему:
— Что, таксыр, по вашему закону, по закону ислама, полагается делать с людьми, нарушившими клятвенное обещание?
Угрюмо посмотрел на командира Кудрат-бий. Куда исчезло все его напыщенное величие, дутая надменность? Он весь как-то постарел, посерел. Тигр на глазах превращался в шакала. Но курбаши еще не сдавался. Он ответил важно и презрительно:
— Ты, идолопоклонник, что ты понимаешь в исламском законе!
— Вот и ошибаешься, уважаемый... Так слушайте, все мусульмане и немусульмане, верующие и неверующие. Пророк Мухаммед в главе бакрэ в священной книге книг правоверных сказал: «Любовь к родине есть одно из качеств верующих. Нарушающих заключение договора, посягающих на свободную и счастливую жизнь народа следует уничтожить». Вот что говорится в вашем законе. Позовите имамов, ишанов, мударрисов, и пусть скажут, что я ошибаюсь или говорю неправду... А кто, товарищи, нарушил договор? Вот он, парваначи. А кто, товарищи, не любит родину и подвергает ее бедствиям и лишает народ счастья, убивая мирных дехкан и отдавая их жен и дочерей на поругание и растление? Он, Кудрат-бий, и его присные... И еще говорил пророк: «Как не воевать с теми, кто нарушил свою клятву?» Днем и ночью, на земле и под землей, в огне и в воздухе советский народ воюет против нарушителей клятвы, против всех баев, богатеев, предателей родины. И мы уничтожим их без всякой пощады.
Мы, большевики, призываем народ: снимите с себя ярмо страха! Кончаются всякие там помещики, баи, беки. Их власть растворилась дымом в небе. Дехкане и рабочие наступили им на глотку. Времена эмирской тирании и насилия богатеев прошли безвозвратно. Пусть дехканство, трудовой люд сами управляют своими делами, управляют без баев, без эмирских чиновников. Ленин сказал: пусть Советы трудящегося народа будуг хозяевами жизни.
А если эти подлые или им подобные ставленники эмира и кровавых ференгов-англичан. — он показал на Кудрат-бия, отпрянувшего всем своим грузным телом к группе курбашей, — если только они осмелятся мешать народу строить свое счастье, тогда мы уничтожим их.
Толпа теснилась уже у самого помоста, растворив я себе басмаческих воинов. Сотни возбужденных лиц, старых и молодых, были обращены к кучке курбашей. Последние слова комбрига утонули в одобрительных криках.
Внезапно курбаши Лютфулла, молодой, полный сил человек в красном с золотом камзоле, спрыгнул с помоста прямо в людскую гущу. Возникло минутное смятение. Несколько мгновений нарядная фигура барахталась в руках дехкан, а затем, словно вышвырнутая мощной волной, грузно шлепнулась на доски помоста.
Курбашей увели. Еще долго не расходился народ. Снова гудели кар-наи, били барабаны. На помостах чайхан появились певцы, прославлявшие в тут же сымпровизированные дастанах доблесть воинов Красной Армии и их славного командира Кошуб-бека, сумевшего перехитрить злобную лису Кудрат-бия. Дымили самовары, пахло пловом, пирожками, шашлыком.
На середину площади вышла странная процессия. Впереди шел старик с огромным животом, с усами и бородой из овечьей шерсти, в огромной чалме и с лицом, густо набеленным мукой.
В толпе раздался хохот, крики:
— Веселый Дерх! Веселые артисты из Дерха!
— Я Бобо-Дехканбай, — петушиным голосом кричал старик, — идите сюда, батраки, идите, мардикеры, нанимайтесь ко мне!
Появился длинный, точно жердь, артист в лохмотьях. Он поклонился «баю» и начал наниматься на работу.
— Будешь работать в поле чуточку, — вопил «бай» — Самую малость. Только от зари утренней до зари вечерней. Да еще дома пустячок: дровишек сажени две наколешь, водицы ведер тридцать принесешь, моих двадцать лошадок напоишь, почистишь, быков пять пар накормишь. Ужин изготовишь на нашу семейку, а в ней только двадцать мужчин да двадцать женщин. Да еще немножечко задержишься, когда мы спать все ляжем. сбрую починишь. Ну, еще пустячок: ночью с дубинкой да трещоткой походишь, воров попугаешь. Ох-охо, вот и вся работа. Боюсь, аллах велик, разленишься.
— Ой, бай-бобо, работка работкой, сколько дашь?
— Будешь кушать досыта. Конечно, не с семьей. Это непорядок. Ну, а на твои харчи буду тебе богато давать продуктов. В месяц получишь столько, что брюхо вырастет еще больше, чем мое: риса я дам тебе один золотник, мяса один золотник, соли один золотник, воды одну пиалу, масла одну каплю. Помолись богу — видишь мою щедрость.
— Ах ты, живоглот, — закричал батрак, — ах ты, ростовщик!
— Так вот как! Ты, ублюдок, еще ругаться! Вот пожалуюсь Кудрат-бию.
— Ах, чтоб твое брюхо лопнуло! Кудрат-бию конец. Большевики ему дырку сделают в башке — и конец. —
Так ты бунтовать?!
Началась потасовка. «Бай» бросился наутек. За ним побежал, размахивая длинными руками, батрак. Настигнув старика, он начал потрошить его. К всеобщему восторгу он долго вытаскивал из брюха «бая» тряпки, чалму, старую галошу, рукав шубы, разбитый чайник, блюдо из-под плова, шумовку...
Когда хохот утих, веселые артисты запели о своем родном Дерхе, что лежит среди персиковых розовых садов на берегах голубого Зеравшана, в горной стране тысячи озер и перевалов. Радостны и беспечны жители Дерха, нет у них баев и ростовщиков, все жители там бедняки, но свободны, и поэтому там так красивы девушки и сильны юноши. Все лето дерхцы работают на своих полях на склонах и вершинах зеленых благоухающих гор, а весной и зимой бродят по кишлакам и развлекают народ, делятся с усталыми дехканами частицей своего веселья и счастья.
До поздней ночи при свете костров веселился Денау. Народ праздновал разгром грозной еще недавно армии ислама.